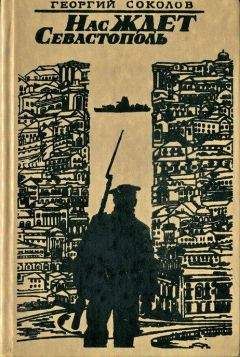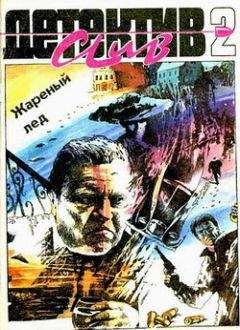Наши! Наши бомбят! Забыв про холод, не думая о том, что бомбы могут попасть и в сарай, мы радовались как дети. Крепче бейте, наши славные соколы, громите, без пощады громите врага! Мы смеялись, шутили, тормошили друг друга. Спасибо летчикам: их налет был для нас лучшим подарком к новому году!
Советские самолеты после этого стали наведываться часто. Они отлично знали свое дело: бомбы падали только на военные объекты. Ни одна не разорвалась на территории лагеря. Немцы по утрам говорили испуганно: «Руссишь [235] Иван аллее бум-бум», то есть кругом все бомбил. Мы хохотали в ответ: погодите, не то еще будет!
В середине января нас потрясла весть: пойман беглец, из-за которого я побывал в числе заложников. Схватили его уже на станции Дясанкой в порожнем вагоне. Привезли полумертвого от побоев, водворили в карцер. Вечером нас собрали на казнь. Но она не состоялась: из карцера вытащили замерзший труп. Товарища унесли в мертвецкую, а минут через десять понурая лагерная кляча увезла его тело на вечный покой к Трем трубам. Всем было горько и больно. И все же мысль о побеге не оставляла нас.
А зима лютовала. На работе в карьере сильно обморозился наш друг Петя Дергач. Ноги посинели, распухли, и через три дня нашего товарища не стало. Мы все были обморожены. Но чудом держались.
Гитлеровцы бесновались. Они носили траур по армии Паулюса, разгромленной и плененной на Волге. Злость так и кипела в них, и за малейшую провинность, а то и вовсе без всякой вины нам доставалось нещадно.
В муках прошли январь, февраль, март. Вот и весеннее солнышко пригрело. Чуть повеселели люди. И не только солнышко тому причиной. Все лучше наши дела на фронте. Даже в фашистском лагере смерти люди, одной ногой стоящие в могиле, чувствуют себя частицей народа, живут его радостями и горестями. Я все чаще думаю: наш лагерь — это кусочек. Севастополя. Среди узников Багерова — бывшие защитники Севастополя. Они не сдались в плен. Нет! Не их вина, что так сложились обстоятельства. Эти матросы и солдаты, сражавшиеся до последней возможности на клочке крымской земли, оказались в руках врага, когда исчерпали в борьбе все свои силы. Так враг захватил и сожженный, разрушенный город. Но гордый дух Севастополя не сломлен, так же как никогда не сломить волю наших людей. Таких людей можно убить, но покорить их никому не удастся.
Десятки раз совершались побеги из лагеря. Все они были неудачными, и товарищи расплачивались за них жизнью. И все-таки разговоры о побеге я слышу все чаще. Наша группа разрабатывает план за планом. [236] Подчас они звучат фантастически, и мы, еще раз все взвесив, отвергаем их. Как ни тяжело откладывать осуществление своей заветной мечты, мы опять и опять думаем, спорим. Незачем всем рисковать — решили мы. Пусть сначала попробует один. Выбор пал на меня.
Нас время от времени посылают на станцию Багерово грузить в вагоны порожнюю тару из-под боеприпасов. Что, если в один из этих ящиков забраться? Сообща обдумали все детали. Ведь надо позаботиться б том, чтобы как можно меньше людей пострадало в случае провала.
15 апреля почти всех обитателей лагеря направили на погрузочные работы в Багерово. Я получил у фельдшера освобождение и не попал ни в одну из бригад. Значит, когда обнаружится мое исчезновение, заложников будет брать неоткуда. Когда колонна выходила из ворот, я незаметно пристроился к ней. Во время погрузки товарищи уложили меня в большой ящик и в нем внесли в вагон. Конвоиры ничего не заметили: они добросовестно следили, чтобы из вагона выходило ровно столько людей, сколько в него вошло. Вечером состав тронулся. Я совсем было почувствовал себя на воле, но на ближайшей станции меня сняли. После стало известно, что выдал провокатор, один из тех, кого лагерное начальство постоянно засылало в нашу среду.
Теперь все. Оставалось дороже продать свою жизнь. Я дрался с полицаями, отбивался от них кулаками, ногами, кусался даже. Пусть уж сразу пристрелят! Но немцы не дали, приказали доставить беглеца живым (чтобы было кого казнить!). Окровавленного, избитого донельзя, меня на веревке приволокли в лагерь, заперли в карцер. Утром лагерь огласили удары по рельсу. Это пробил мой смертный час. Открыли дверь. Развязали. За ночь все тело затекло, онемело, на руках и ногах синие рубцы от веревок. Идти я не мог. Полицаи потащили меня под руки.
Строй узников замер в безмолвии. Около кухни я увидел подмостки наподобие сцены (это новое), на них стоит какой-то майор в окружении своры полицаев. Меня повели между шеренгами узников, втащили на подмостки и поставили лицом к пленным.
Переводчик начал читать приказ. Читал длинно и нудно. Смысл я улавливал смутно. Но понял все же, [237] что сменилось лагерное начальство и новый комендант не хочет, чтобы светлый день его вступления в должность был омрачен смертной казнью. Поэтому расстрел беглецу заменяется более гуманным наказанием: он получит двадцать ударов плетью, а затем его вымажут сажей и на сутки привяжут к столбу позора. Но комендант предупреждает, что, если урок не будет извлечен и попытки побега повторятся, виновные будут расстреливаться без пощады.
Толпа облегченно вздохнула и загудела. Польщенный майор улыбался. А я не знал, радоваться мне или горевать. С меня сорвали одежду, положили животом на широкую скамью и привязали к ней руки и ноги. Подошел здоровенный полицейский, по прозвищу Бугай, которому я вчера, отбиваясь, укусил руку. Злорадно усмехаясь, он засучил рукава. Сейчас уж он сорвет свою злобу, жалости от этого бандита не жди. Бугай замахнулся толстой резиновой плетью. После четвертого удара я потерял сознание. Очнулся, когда обдали холодной водой. Я уже лежал на земле. Бугай вытирал пот со своей звериной рожи. Прорычал:
— Если будешь жить, собака, то век будешь меня помнить!
Да, такого не забудешь. На спине у меня до сих пор синие полосы!
Другой полицай взял большую кисть и начал меня мазать разведенной сажей — по лицу, по свежим ранам. Скоро я весь был черный как негр. Потом меня подтащили к столбу посреди двора, приподняли на метр от земли и привязали к нему. Я висел на веревках, все глубже врезающихся в тело. Нестерпимая боль мутила разум. Я то и дело впадал в беспамятство. Пробуждаясь, чувствовал, как нестерпимо жжет солнце. А еще страшнее — мухи, облепившие истерзанное тело. Даже часовому, приставленному ко мне, было не по себе. Я видел, как дрожит в его руках автомат. Вечером мух сменили комары. Часовой все же попался сердобольный: дал глотнуть воды из фляги. Отгоняя веткой комаров от себя, он нет-нет да и смахивал их с меня.
Так я провисел на столбе сутки. Надпись на дощечке, красовавшейся на моей груди, гласила: «Такая участь ожидает всякого, кто попытается бежать из лагеря». Под конец я уже ничего не чувствовал — иногда [238] и обморок бывает спасительным. Утром меня сняли с моего креста. Разрешили товарищам унести в конюшню. Я метался в жару, бредил. Друзья ни на минуту не оставляли одного. Лагерный фельдшер из военнопленных тайком передал Николаю Дорошеву бинты, йод, какие-то порошки. Товарищи обработали и перевязали раны, меняли холодные компрессы, общими усилиями выхаживали, пока я немного не оправился. Вечером, возвращаясь с работы, они приносили что-нибудь вкусное — то яичко, то пирожок, то моченое яблочко — лакомства, которых мы давным-давно не видели. Когда я спрашивал, откуда эти сказочные вещи, ребята улыбались.
— Это из Багерова тебе подарки. Там обо всем знают и тоже хотят помочь тебе.
Через несколько дней я вышел на работу. Фельдшер сказал:
— Иди со всеми, а то полицаи настаивают, чтобы тебя перевели в лазарет.
Лазарет был у нас равносилен кладбищу: кто туда попадал, никогда не возвращался. Может, там специально умерщвляли больных? Кто знает. Но мы боялись лазарета пуще огня. Петя Дергач так и умер в сарае от гангрены, но в лазарет идти отказался.
Работать, конечно, первое время я не мог. Друзья и совсем незнакомые люди выручали, делая то, что задавалось мне. Позорный столб сделал меня самым популярным человеком в лагере.
Фронт приближался. Мы судили об этом по участившимся налетам советской авиации и по тому, какими непродолжительными стали полеты немецких летчиков.
Фашисты забеспокоились. Мы радовались переменам и в то же время тревожились: а как с нами поступят гитлеровцы, когда подойдут наши войска? Говорили, что в таких случаях уничтожают всех узников лагерей. [239]
В июне 1943 года обитателей лагеря разбили на две группы. В одну отобрали людей поздоровее, в другую — больных. Нас разлучили: Павла Данчука и братьев Николая и Алексея Дорошевых взяли в группу здоровых. Леонид Максименко, Владимир Кисленко и я попали в другую. Вид у нас был действительно неказистый — кожа да кости. В шутку нас называли «дезертирами от Трех труб». Таких набралось сотни четыре. Однажды ночью нам приказали собрать пожитки и погнали на станцию. Погрузили в товарные вагоны — без нар, без соломы. Накрепко заперли двери. Леня Максименко, Володя Кисленко и я постарались попасть в один вагон.