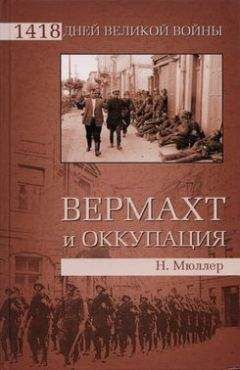То было той самой фашистской зимой, когда в ошалелый мороз в стенах лопались бревна и земля под ногами, немцы гнали людей, опоясав конвоем с собаками.
Стыло позднее утро. В белой дымке искристой висло солнце над городом. А по улице люди в домах, приморозившись к окнам, прикованно ждали. В ожидании скучном Валерик на стуле стоял и в оконном стекле для подгляда глазок языком выгревал.
А на стеклах морозная шуба под ногтем соскребалась гулко, и глазок отогретый моментально мутнел и льдился. Сквозь него да сквозь рамы двойные ничего ж не увидишь.
— Ах ты, Боже мой, Боже! — запечалилась мамина мама, бабушка Дуня. — Надо б выйти к забору да в щелочку глянуть!
— И мне надо б, — со стула Валерик сползает.
— Ты, наверно, забыл, что сказал полицейский вчера?
Нет, Валерик того не забыл.
У колодца, когда дед Митяй их бочонок на санках водой наполнял, пробегал полицейский:
— Мы тут завтра погоним жидов, дак детей не пускайте на улицу. И собак привяжите! Постреляем иначе!..
— А зачем? — подал голос Валерик.
— А затем, что так надо! — раздраженный морозом, убегая, сказал полицейский. — Ишь, мудрец!
— Надо… Мам, а «надо» такое зачем?
— Тише, сыночка, тише…
— Дак это ж все Гитлеру ихнему надо! Да фрицам «фашицким», — поднимая ведро из колодца, баба в рыжем тулупе сказала. — Вот зачем они выгнали Хайкиных всех, и Полонских, и Каца с детями? И Апартиных всех, и Шаронов? А у Шнитмана при смерти матка лежала, дак и той помереть в своей хате не дали. Приказали забрать… Левка Шнитман понес свою бабку, як ляльку… Да сказали одеть надо все, что получше, и самое ценное взять. И всех в синагогу согнали. Теперь синагога набита битком и фабричная шестиэтажка… А там посдирали с них золото всякое, и шубы содрали, и теплое все. Рвали золото с пальцами будто бы… И серьги… дак прямо с ушами!..
Резкий взрыв сквозь морозную дымку прорвался с окраины, стекла в окнах домов содрогнулись.
Люди глянули в сторону леса, где клубилось и реяло облако взрыва:
— Третий день они мерзлую землю взрывают! Все могилу копают живым. Да не фрицы ж копают, а сами жиды. Одни мужики… День копают, а вечером их под расстрел. Прямо там, чтоб назад не гонять, да другие б не знали, что за яма их там дожидается…
То было вчера. И вчера оно не было страшным.
А сейчас под окном пробежал кто-то с плачем, и улица стихла.
— Там их гонят, наверно, а мы тут сидим! — мама с бабушкой засуетились, затоптались у вешалки, одеваясь. — Господи Праведный, где ж твои партизаны! Где попало взрывают, а где надо — их нету! Ах ты, Боже мой, Боже!
И Валерика быстро одели да к забору все вместе.
А заборные щели жгут морозными струями, и глаза заплывают слезой.
Вот прошли по дороге два немца с собакой. У овчарки красивой и страшной от мороза опущен хвост, морда в инее…
Тут внезапно возник и поднялся над улицей плач разногласый, похожий на стон. И в ответ по дворам, как пожаром взвихренные, морды вытянув в небо, псы по-волчьи завыли, смертным ужасом души людей наполняя.
— Слышишь, внучек? То наши соседи с домами прощаются! — пояснила Валерику бабушка Дуня. — Глянь-ка через дорогу! Видишь Кацевых кошку в окне? Чует все, животинка несчастная…
И заплакала бабушка Дуня.
И толпа повалила по улице в окружении немцев и готовых к атаке собак.
Впереди шел высокий старик в желтой тряпке вокруг головы. Нос, клювастый, сухой и горбатый, на морозе уже побелел. Уши в инее, пейсы и борода.
— Это батюшка ихний, раввин, а по-нашему — поп! — шепчет бабушка. — Весь расхристанный, Боже ты мой! Видно, все пораздал до последней одежки… И ботинки на нем без шнурков! И хламида какая-то драная…
Спрятав руки рукав в рукав, шел старик, гордо подняв лицо, и нацеленный взгляд его был где-то там, впереди. Своим мысленным взором он прошел много раз этот путь до могилы. Вот конец уже улицы… Там дорога налево свернет, перейдет переезд и на взгорок полезет за железной дорогой. И на самой опушке притихшего бора, где бездонным провалом зияет могила, — оборвется дорога земная!
У могилы той — пропасти, если горло ему не прострелят, как раввину Исааку, он успеет сказать, как молитву, прощальное слово! И, сраженный морозом, он подпиленным деревом рухнет, не склонив головы перед гоями.
Надо только народ довести! Доглядеть, чтоб в паническом страхе не стали скотами! Не просили б пощады у псов!..
За себя он спокоен. Он дойдет, даже кровь если в жилах замерзнет…
За раввином, сцепившись локтями, шли шеренгой мужчины. Они плотно друг к другу шагали нешироким, размеренным шагом, взбивая ногами снежную наметь дороги.
За мужчинами, как за оплотом, мелким шагом шли женщины, дети и старые люди в каких-то лохмотьях и ветхом тряпье, что им кинули вместо одежды добротной.
И стон над толпою, и плач, и вой по дворам взбудораженной своры!
И только овчарки конвоя, морозом прижатые, шли молча, с достоинством злобным толпу надзирая.
А синие гребни сугробов дымились искристою пылью и лизали дорогу языками сыпучего снега. Этот туго податливый снег забирал у идущих последние силы. И падали люди. Их никто не пытался поднять. Обходили.
За толпой бортовые машины подбирали упавших домерзать на уже околевших.
Но детей не бросали и мертвых несли…
Тут калитка открылась, и с улицы псиная морда просунулась и, увидев приникших к забору людей, враждебно ощерилась и зарычала.
За овчаркой во двор по-хозяйски ввалился немецкий солдат, тряпьем замотанный до глаз и инеем проросший. Притаптывая валенками снег, на Валерика палец наставил в перчатке протертой, сказал «пух!» и глухо заржал из-под тряпок.
— Берта, шли! — сказал он собаке, спокойно глядевшей, как, высунув морду из будки, яростным лаем исходит дворняжка. — Шли, шли! Тут юде нима…
И людскую толпу, окруженную псами, погнали в могилу…
В дом вернулись. В пороге столпились, как гости, и никто не решался раздеться, будто ждали чего-то еще.
На душе у Валерика было плаксиво и страшно.
— А Фаиночка в ботиках так и пошла, — тихим лепетом мама сказала.
В этот миг с недалекой окраины, куда люди с раввином ушли, пулеметы заржали раскатисто, и над лесом со стоном и хохотом заметалось, заплакало эхо.
А на утро другого дня, едва рассвело, дед Митяй заглянул. Шапку снял у порога. И в прихожей, не найдя иконы, перекрестился, на печку глянув.
— Доброго утречка вам, — комкая шапку в руках, на веник в углу загляделся.
— С чем пожаловал, дядя Митяй? — подошла к нему мама.
— Седни вот… у колодца Рябой полицай бабам всем рассказал, как жидов убивали вчерашних, тех самых. Из пулеметов стреляли как. И когда уже всех перебили, и собралися все полицаи и немцы шнапса выпить по рюмке, как из тех, что убитыми были, из ямы-могилы, выскочил мальчик и кинулся в лес наутек!..
И в голосе деда послышалась радость моментная! Он даже рукою взмахнул, будто шапку подкинуть хотел к потолку! Но тут же, как птица на взлете подбитая, дед поник опечаленно-тихо:
— А куда ж утекать, когда снега кругом по макушку…
Дед Митяй замолчал, и мама не выдержала:
— Что же с мальчиком, дядя Митяй?
— А что может с мальчиком быть, когда гады кругом с пулеметами да с револьверами! Один офицер, Рябой называл его звание, стрелял в него несколько раз! И убил. А другой офицер это все поснимал на какую-то «лейку». Я не знаю, что это такое…
И запомнил Валерик, как со стоном болючим охнула мама. За одежки цепляясь руками, что с вешалки висли, она сьехала на пол, в никуда устремившись глазами.
— Да! — будто только что вспомнил, задержался Митяй на пороге. — Рябой полицай насмехался, что дитенок тот, хлопчик — как будто Фаинин сынок… Той самой подружки твоей…
…А колодки под пленным скрипят, и на камнях дорожки кривятся. И пятки его, что копыта, большие и плоские, в трещинах. И кровь запеклась в этих трещинах, застеклянела. И мосластые ноги его из коротких штанин в глаза лезут Валерику. И весь этот немец усталый и пасмурный не кажется больше чужим и враждебным.
«Конечно, не мог он расстреливать наших! Бедный-пребедный такой…»
А немец в бурьяне обочном зонтик тмина сорвал и так нюхает жадно, что и шаг придержал и бредет отрешенно.
И зонтик такой же понюхал Валерик, но немецкой особости не уловил и радости не испытал, той самой, что немец почувствовал, встретив родины запах.
А короткая радость для немца тоской обернулась. С лицом отрешенно-далеким с журавлем управлялся нескладно и канистру водой наполнял, как попало, обливая колодки и ноги, и штанины потертые.
И во всех его действиях вялых тупая усталость гляделась. И рабское было в его отрешенном смирении и претерпелое.
Но вот к колодцу девушка пришла. Поставила на лавку ведра и, опершись на коромысло, стала немца разглядывать, не скрывая жалости скорбной.