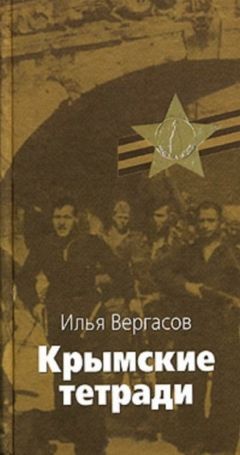Итак, новый марш по студеной и снежной яйле. Мы ползем по пояс в снегу, крутой бок Демир-Капу мучает нас который уж километр! Амелинов тянет как добрая лошадка, только пар идет от его широких ноздрей, но зато мне каково?
Муки мученические претерпел, пока добрался до одинокой кошары с заброшенной сыроварней посередине.
Только комиссарский чаек с «церемонией» привел меня в чувство.
Взлохмаченное солнце щурится из-за гор, бросая на снежную целину бледные лучи. Ничего живого вокруг, одна оледенелая тишина.
Шагать трудно, нудно. Глянешь вперед — вроде равнина, думаешь: наконец-то!
А идешь меж хребтинок — вниз, вверх, снова вниз. Не только тело, но и душа изматывается.
Выручает один бесхитростный приемник: поищу точечку, за которую можно взглядом зацепиться, прикину: сколько до нее шагов-то?
Вот и считаю: шаг, другой, третий… и так до самой точечки. Глянь, и не ошибся. Может, потому я и сейчас почти точно определяю расстояние до любой видимой точки, только на море ошибаюсь — тут свой глазомер.
Перед вечером начали спуск к Чайному домику. Переход был изнурительный. И перемерзли.
Теперь дорога удобно бежит между могучими дубами, которые сторожко стоят по сторонам заслоном ветру и смерчу. Все вокруг спокойно, только на западе под Севастополем что-то поурчивает и хрипло охает, покрываясь татакающим языком пулеметов. То фронт, то свое, и нас сейчас некасаемо. Нам чтобы рядом пули не пели. Устали до того, что одним окриком можно с ног свалить.
И вдруг этот окрик:
— Положить оружие, лечь на землю!
Амелинов довольно спокойно:
— А, стреляй, коль хочешь. — Сам, правда, стал белым, а стоит на месте.
Из-за дерева вышел рыжеватый человек в кожаной обгорелой куртке, небритый, с отечной синевой под глазами.
— Кто такие? — автомат в мою грудь.
Я приказал:
— Убери, слышь!
Попятился назад, но автомат на меня.
Представились, спросили:
— Вы севастопольцы?
— Положим.
— Мы знаем Красникова, а он нас. Пошли человека, пусть доложит.
Ждали долго, пока наконец повели нас по поляне к полуразбитому сараю с перекошенными дверями. Показалась в стороне вооруженная группа. Впереди человек в железнодорожной форме, без поясного ремня и шапки — Томенко! Я сразу узнал его. За ним автоматчики, а потом следовал Иваненко. Он меня не узнал, а может, и не хотел узнавать. Плечи его еще больше сузились, глаза провалились, и губы — нитки синевы. Посмотрел на меня:
— Кто такие?
Представились более подробно.
Иваненко выслушал, извинился:
— На минутку.
К Амелинову подскочил рыжий партизан в обгорелой куртке, успел шепнуть:
— Шлепнуть хорошего человека хотят. Выручайте!
Имя Захара Амелинова больше было известно как специального уполномоченного командующего. Наверное, знал его и Иваненко.
Амелинов подошел к нему:
— Товарищ начштаба, я прошу вас отойти в сторонку.
Иваненко замешкался, но взгляд Захара Амелинова был чрезвычайно твердым: требовал безотлагательного подчинения.
— Обращаюсь к вам как специальный представитель командующего! Куда ведете машиниста товарища Томенко?
Иваненко насторожился: откуда нам известно о Томенко? Но все же ответил.
Итак, партизана Михаила Томенко собираются судить. Но чем-то не похож он на человека, умышленно нарушившего командирский приказ. Это нам не объясняли, но мы чувствовали, что именно так. Да и не случайно нам сказано: «Шлепнуть хотят!»
Амелинов просит настойчиво:
— Отложите суд до прибытия товарища Красникова.
— Томенко арестован по его личному приказу.
— И все же я требую! — Голос Захара — металл.
— Есть! — подчинился начштаба и ушел распорядиться.
Амелинов недоумевал:
— Непонятный человек!
— Обыкновенный пунктуалист, — подсказал я.
— Тут сложнее.
Красников был на Кара-Даге — у балаклавцев. Узнаю его и не узнаю. Это совсем не тот человек, кто поучал нас, бывших массандровцев, как командовать землей, кто считался передовым директором совхоза.
И вроде аккуратен, выбрит, подтянут, но все же не тот, кого я видел в последний раз на Атлаусе. Сразу видно — устал, до нестерпимости устал. Так глядят сердечные больные перед очередным тяжелым приступом. Их глаза как бы обволакиваются тончайшей кисеей.
Принял нас Красников по-братски, но был вял и совсем неразговорчив.
Амелинов- сразу признался, что превысил свои полномочия и вынужден был вмешаться в дела района, в частности в действия начальника штаба.
Красников ответил:
— Томенко — человек боевой, но он нарушил строгий приказ.
Мы расспросили, где находится Акмечетский отряд; нам ответили, но холодновато.
— У вашего Калашникова кулацкий дух. Он на чужом горбу в рай едет, бросил обвинение Красников.
Тут я увидел Захара Амелинова в новом качестве и абсолютно поверил, что он не зря был первым секретарем райкома партии.
С большой выдержкой сказал:
— Владимир Васильевич! Мы постараемся разобраться.
Такая форма ответа на довольно резкую оценку действий Калашникова удивила Красникова и смягчила его.
— Нельзя оплетать собственный лагерь проволокой с навешенными на ней пустыми консервными банками, нельзя отказывать товарищу в беде, — совсем мирным тоном заметил Красников.
— А были случаи?
— Да! Отказал принять раненых, а у нас выхода не было.
— Факт подтвердится — накажем…
— Да я не к тому, я хочу, чтобы мы локтем чувствовали друг друга.
Амелинов выбрал момент и шепнул мне:
— Нам надо остаться.
Переночевали в закуточке сарая, заделанного хворостом. Было мучительно холодно и неудобно. Вспоминался Кривошта, ялтинские партизаны и ночь в кошаре. Следовало бы и здесь поступить так, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
Какая-то внутренняя скованность и вялость чувствовалась у Красникова. Неужели это он так классически действовал во втором эшелоне фронта, где тылы вражеских дивизий?
А вся обстановка?
Она совсем иная, чем в нашем штабе, в наших отрядах. И у нас базы пограблены еще в ноябре, и мы мерзли — морозы у нас даже пожестче, и на нас нападали каратели, и мы хоронили боевых товарищей. И все-таки жили, даже в самые отчаянные минуты находили живое слово. На что уж наш Киндинов строг, но и он в хорошую минуту, бывало, спросит: «Куда наша «церемония» поцеремонила?» Это он об Амелинове. Меня, например, называли пророком, посмеивались над тем, как однажды я оленя-самца принял за лазутчика и пальнул из пистолета, а попал в старый дуб. Я забывал об этом факте, иногда хвастался умением отлично стрелять, но меня слушали и шутливо поддевали: «А кто попал пальцем в небо!»
Все это никого не обижало.
Здесь же вообще шутки немыслимы, а жаль.
Утром мы умылись с особенной тщательностью — так у нас заведено, — и на нас посматривали как на людей с того света.
Завтрак начался с того, что мы вывалили содержимое наших вещевых мешков в общую кучу. Оно не ахти какое, но килограмма два вареной конины было.
Иваненко жевал как-то украдкой, будто боялся окрика, Красников ел молча. Он ко всему еще был тяжело простужен, белки глаз в красных прожилках. Встретишь такого на улице и непременно подумаешь: болен, сильно болен.
После завтрака нас повели к партизанам-железнодорожникам, боевым друзьям Томенко, познакомили с их командиром — Федором Тимофеевичем Верзуловым.
Он худ, но широкоплеч, с твердой постановкой серых глаз. Человек с собственной жилочкой. Понравился и тем, что был рад нам, извинился за скудность угощения (а нам все-таки выставил тонкие кусочки конины), и тем, как слушал наш рассказ о действиях крымских партизан.
Амелинов с этого и начал. Честно признаюсь: поначалу слушали обычно, как слушают всегда, когда говорящий вспоминает: где-то рядом не так, как здесь, а намного лучше. Назидания люди не любят.
Захар был прост, но не простоват. Его простота была той самой, за которой стоят большие дела. Он как-то сразу расширил границу Севастопольского партизанского района, как бы поднял слушателей на самую высокую точку Крыма — Роман-Кош, и сказал: «Смотрите, сколько в лесах нашего брата, и вот какие дела мы творим. Партизан из отряда Чуба под Судаком свалил в кювет машину врага. Можно считать его бойцом за Севастополь? Конечно!»
— Двадцать пять отрядов защищают Севастополь, — говорит комиссар. — Но ваши отряды — правофланговые. А на правом фланге не всем устоять, а вы стоите три месяца, и мы снимаем перед вами свои шапки, мы учимся воевать у вас. Учат нас ваши рейды во втором эшелоне, ваша победа над карательной экспедицией…
Даже Красников не мог остаться равнодушным к таким словам — я исподволь наблюдал за выражением его лица. Он был взволнован, посмотрел на партизан, на самого себя как бы со стороны.