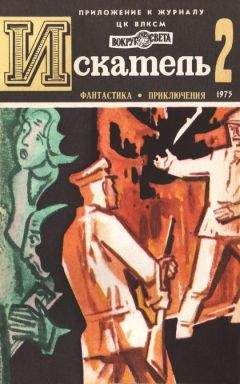Тут привычно пахнет металлом и машинным маслом. С обоих дизелей сняты крышки цилиндров, вскрыты главные и вспомогательные механизмы. Мотористы каждый занят своим делом — притирают клапана, паяют, орудуют напильниками и шаберами, позвякивают разводными ключами. Иноземцев входит в работу, как пловец в воду. Он берет микрометр и начинает замерять зазоры подшипников.
— Кто на подшипниках работал? — говорит он. — Вы, Бурмистров? Я же просил здесь подшабрить.
— Я шабрил, — угрюмо отвечает тот.
— Сачковал ты, а не шабрил, — подходит Фарафонов, вытирая руки замасленной ветошью.
— Кто сачковал? — Бурмистров поднимает на старшину злой взгляд. — Я работаю, сколько можно на голодное брюхо.
— Слишком много о брюхе думаешь.
— Не больше, чем другие.
— Прекратите, — с досадой говорит Иноземцев. — Подшабрить, Бурмистров. Зазор должен быть ноль двенадцать.
Он идет дальше по тесному, спасительному своему царству.
— Впилили бы ему суток пять губы, — говорит Фарафонов, — а то сладу не стало.
— Взрослого человека стыдно сажать в кутузку, — морщится Иноземцев. — Топливные трубочки все проверили?
— Проверил. Одну лопнувшую заменить надо.
— Запаять ее на медь. С трубками на техскладе плохо.
— Есть, товарищ лейтенант.
Вечером он в кают-компании рисовал боевой листок, красной акварелью выводил: «Выше качество ремонта!» Напротив сидел за столом Уманский. То и дело поднимая пылкие глаза кверху, словно ища на подволоке нужные слова, — он сочинял передовицу. Писал Уманский медленно, левой рукой придерживая правую, как бы умеряя ее разбег.
— Так. — Иноземцев положил кисточку возле банки с водой. — Значит, первый столбец пойдет под передовую. Хватит тебе одного столбца?
— Постараюсь уложиться, — сказал Уманский.
— А то можно и больше. Мне не жалко. Все равно заметок нет. Один только Анастасьев написал.
— Надо требовать, чтоб писали. Кобыльский пусть напишет. Фарафонов.
— Фарафонов обещал принести заметку. А боцман мне сказал: «Товарищ лейтенант, лучше я вам чего-нибудь устно расскажу». — Иноземцев усмехнулся. — А рассказы у боцмана в основном не для печати.
— Да уж… Матерщинник первого ранга.
— Еще есть стихи, — сказал Иноземцев. — Плахоткин сочинил.
— А ну? — заинтересовался Уманский. — Прочти.
Иноземцев вынул из кармана сложенный тетрадный листок, прочел:
Мы с ремонта выйдем в море.
Путь-дорога широка.
Разгуляйся ж на просторе,
Грудь героя моряка!
— Ну и дальше в таком роде. Да нет, не надо это в боевой листок.
— Почему? По-моему, все правильно.
— Правильно-то правильно, но… Тут же никакой поэзии. И потом — как это может разгуляться грудь?
— Так это ж стихи. В стихах, может, допускается…
— Брось, Давыдыч.
Иноземцев принялся переписывать в боевой листок заметку Анастасьева, сокращая и выправляя стиль. Писал мичман коряво и длинно, без знаков препинания, отдавая предпочтение деепричастиям: «Выполняя приказ командования стремясь подготовить тральное хозяйство к летней кампании против ненавистного врага с высоким качеством уделяя особое внимание узким местам…»
В кают-компанию вошел Фарафонов. Положил перед Иноземцевым листок со следами машинного масла в нижнем углу:
— Я, товарищ лейтенант, из отличившихся сегодня обоих Степанов записал и Зайченкова. А про Бурмистрова, как он сачкует, не знаю…
— Напиши, Георгий Васильич! — сказал Уманский. — Обязательно надо йодом критики прижигать тех, кто не с полной отдачей.
Фарафонов сел вписывать в заметку Бурмистрова. Лицо у старшины мотористов было осунувшееся, рыжеватые усы обвисли. Закончив, Фарафонов не ушел, продолжал сидеть, будто не в силах был поднять со стола большие тяжелые руки. Руки, никаким мылом не отмывающиеся от смазки и металлической пыли. Когда Уманский кончил писать передовицу и удовлетворенно закурил, Фарафонов сказал негромко:
— Хочу с вами, Михал Давыдыч, об одном деле поговорить.
— Давай. — Фельдшер протянул ему пачку «Ракеты».
— Нет, я, если разрешите, махорочку. Я вот о чем хотел, — еще понизил он голос, — о девушке этой, ну, что к командиру приходит. Есть недовольные в команде… из нашего пайка, мол, скармливают часть посторонней женщине.
— Ясно, — кивнул Уманский, его большеротое лицо приняло озабоченное выражение. — Я уж намекнул командиру: неудобно, чтоб в кают-компании питалась посторонняя. Так он велел к себе в каюту подавать… Это дочка мастера с Морзавода, он умер недавно.
— Я ничего против девушки не говорю, Михал Давыдыч. По мне — пусть ходит… почему не накормить голодного человека… Но разговоры идут нехорошие.
— Кто болтает? Давай, давай, Георгий Васильич, не покрывай.
— Бурмистров недовольство высказывал. Некоторые еще. Бидратый.
— Понятно. — Уманский загасил окурок в пепельнице. — Жаль, Балыкина нет… Я не могу с командира потребовать.
— А по партийной линии?
— Да понимаешь, — наморщил лоб Уманский, — очень уж дело такое… вроде бы личное, хотя и пересекается с общественным… Если б не голод, я бы, конечно, командиру прямо посоветовал отставить это.
— Если б не голод, — сказал Фарафонов, пошевелив руками на столе, — так и разговоров бы никаких не было.
— Само собой. Если бы питание по норме было, так кто бы сказал хоть слово, что посторонняя питается? Никто. Я тебе вот что скажу, Васильич, голод сильно человека меняет. Того же взять Бидратого. Служил не хуже других, старательный паренек. Из коллектива в плохую сторону не выделялся, верно? А голод повлиял. Или Бурмистрова взять твоего…
— Бурмистров и раньше нарушал. К выпивке имелось пристрастие.
— Это было, помню. А чтоб сачковать? Или вот как сейчас, болтать, понимаешь ли, недовольство?
— Раньше не слыхал.
— То-то! Голод повлиял, Васильич. От голода человек становится сам не свой. Насмотрелся я когда-то на Украине.
— Другие-то ребята держатся, Михал Давыдыч.
— Все держатся! А те, кто морально послабее, глядишь, и сорвутся. Ладно, я подумаю, что можно сделать. — Уманский взглянул на часы. — Пойду своих больных посмотрю. Вы тут, товарищи, после работы приберите, чтоб чисто было.
Он вышел из кают-компании. Фарафонов докурил самокрутку, шумно вздохнул.
— Пойду, товарищ лейтенант, если вам не нужен.
Иноземцев поднял голову от боевого листка, спросил:
— Вы всегда обо всем докладываете, что в бэ-че делается?
У Фарафонова лицо потемнело.
— Что вы хотите сказать, товарищ лейтенант?
— Ничего… — Иноземцеву стало неловко. Черт знает, почему с языка такое слетело. — Просто услышал, как вы… Впрочем, можете не отвечать.
— Могу и ответить. Ничего тут нет такого… О настроениях личного состава и комиссар, и парторг должны знать. Чтоб правильно руководить, так? А к личному составу я ближе стою. И как секретарь комсомола их информирую. Ничего тут нет такого, потому что — только факты. Только правду.
Иноземцев обмакнул кисточку, набрал красной краски, начал выводить заголовок фарафоновской заметки: «Своими силами». Только правду (думал он). Только факты… Ну да, Тюриков спросил, сколько миль до Кронштадта, я ответил. Факт? Факт. Фарафонов так и доложил: имеется факт. Но вот странное дело: получилось из этого факта, что я подсчитывал мили отступления… что я такой-сякой, весь из себя нехороший… Странно, что люди не всегда понимают друг друга… Подозревают то, чего нет и в помине…
— Я вас не задерживаю, товарищ Фарафонов, — сказал он.
После утреннего обхода корабля Козырев вошел к себе в каюту. Только что он накричал на Иноземцева — за то, что не проявляет настойчивости в ремонте трального трюма, — и отправил его на Морзавод с приказанием без сварщиков не возвращаться. Теперь, приостыв, Козырев с огорчением подумал о своей вспышке. Напрасно позволил себе раскричаться… Надо научиться обуздывать себя…
В дверь постучали, вошел Уманский. Он доложил о состоянии здоровья личного состава. Появились признаки цинги. У минера Бидратого кровоточат десны. У мотористов Тюрикова и Зайченкова — сыпь, упадок сил…
— Цинга? — удивился Козырев. — Болезнь арктических путешественников — у нас на корабле?
— Это, Андрей Константинович, болезнь недоедания. Нехватки витаминов.
— Да, да, понятно… А какие есть средства от цинги? Ложечная трава?
— Не знаю, что это такое. Средство — витамин цэ. Флагврач ОВРа говорил на совещании, что санупр готовит выдачу порошков витамина цэ по всему флоту. А пока что хвойный настой рекомендуется. Конечно, госпитализация ослабевших.
— Нам ослабевать нельзя, — сказал Козырев, подумав о том, что у него второй день поламывает ноги. — Никак нельзя, Михал Давыдыч. Уж вы постарайтесь, доктор, чтоб люди у нас не выходили из строя. И этот хвойный настой — так вы сказали? — принесите мне тоже.