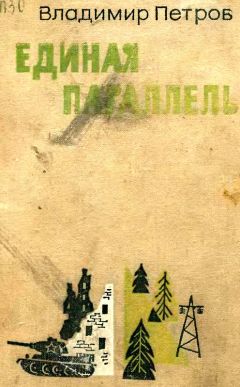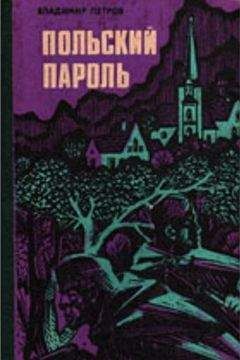— Какой там любит! — Гошка неприязненно поморщился. — Вчера вон крик поднял, куда там! Разгильдяй, и все прочее. А я при чем? Сам есть капиталист, так с жиру и бесится. А я отвечай.
— Какой капиталист? Ты о чем?
— Ну, почту самолет выбросил — тот, который потом шлепнулся. Мешок, значит, в озеро угодил, а я нырнул, вытащил. Потом сушил эту самую корреспонденцию. На солнышке, прямо на посту. Правда, не успел высушить. А начальник меня за мокрую почту в оборот взял. Черт те что получается…
— А капиталист при чем?
— Да это я так… — Полторанин неловко поскреб шею. — У него там в письме про наследство написано… Из Москвы какая-то нотариальная контора пишет. Ну я случайно так… Интерес поимел, знаете… Письмо-то расклеенное было.
— И он за это тебя ругал?
— Еще как! Аж побелел весь. Я ему говорю: ничего, мол, не читал, не видел — оно мне надо. А он — в ругань. Страсть какой нервный человек.
— Интересно… Ну а сам-то ты что об этом думаешь?
— Не знаю… Испугался он, что ли. Все-таки, ежели капитал в наследство, — разговоры пойдут. Да чего там, дело известное: они, инженеры некоторые, — из бывших. Или из немцев. А я человек не болтливый, мне плевать. К тому же на службе. Посторонним рассказывать не положено. Мало ли что бывает.
— Ну, а Корытин как?
— Да хам он, и больше ничего. Они с товарищем Шиловым все дружатся. На эти самые, на пикники ездят. Меня тоже приохочивают. Нет, не буду я там служить, в этой постылой ВОХРе! Пропади они пропадом! Уйду.
— А вот этого делать пока не надо, Полторанин! — Денисов накапал в чашку какого-то лекарства из пузырька, выпил, горько поморщился. — Трудно тебе там? Вот это и хорошо, что трудно. А то ты привык к вольготной жизни. Вот теперь и потрудись, потерпи. Это тебе будет задание, как завтрашнему комсомольцу. Слушай сюда…
Ну и дела, шанежки-ватрушки, сыромятны ремешки! Чертыхаясь в душе, Гошка шел прожаренной улицей, ладонью размазывая пот на висках. Час от часу не легче… Ведь все это, надо понимать, пахнет очень серьезным и опасным делом, почище, пожалуй, чем колготня с сапными конями. Дернула его нелегкая подглядывать это подмокшее письмо! Теперь ходи да оглядывайся.
Было такое ощущение, что он неумышленно, ненароком испортил нечто значительное, важное для всех и даром ему это не пройдет, возмездие неминуемо последует, но не сейчас, а позднее, и случится оно неожиданно и неизвестно от кого. Гошка вдруг поймал себя на том, что не идет, как обычно, серединой дороги, а жмется к палисадникам, и тесовым заборам и поминутно оглядывается при этом. Устыдившись, он подумал, что бояться ему, в сущности, некого, к тому же он никогда трусом не был. А внезапный страх пришел к нему просто потому, что он впервые в жизни почувствовал настоящую и большую ответственность. Теперь ему приходилось отвечать, а вот как и за что — этого он пока не знал. Оттого, наверно, и трусил — от грядущей неизвестности.
И еще он подумал, что, кажется, куда-то повернул, вышел на какую-то другую дорогу — так бывает, когда вылезешь наконец на хребтовый перевал, и в лицо враз холодно бьет синий простор, пахнущий талым снегом. Неуютно, сурово-сдержанно вокруг, зато дышится легко и хочется идти вперед. И с высоты этой, обозначающей четкую определенность, мелочным и мелким виделось все оставленное позади, все вчерашнее — мальчишеское, зряшное, малосерьезное: и ребячьи потасовки у клубного крыльца, и любовная игра с пустоватой смазливой Грунькой, и даже наградные часы не восторгали — казались лежащей в кармане увесистой речной галькой.
Напротив сельсовета Гошка остановился, поправил фуражку и застегнул воротничок. Пожалуй, он впервые без прежнего презрительного равнодушия глядел на обшарпанное крыльцо, на доску с разноцветными объявлениями. Он недолюбливал этот дом — тут ему не один раз «прочищали мозги» (безуспешно, правда).
Нет, он не обижался — в жизни все происходит в свое время. Почему бы сейчас ему самому не войти в неприветливый «казенный дом» или хотя бы прочитать эти объявления? Ведь для людей писаны, для черемшанских граждан. Стало быть, и лично для него.
Можно начать с этого, самого красивого и броского: «Объявляется переселение на Новозаречную улицу». Ну это не по его части, хотя, по существу, правильно: давно надо вытурить кержатню из замшелой щели, «за ушко да на солнышко».
— Штрафами интересуемся? — ехидно прозвучал с крыльца женский голос.
Гошка обернулся: у перил подбоченилась паспортистка-учетчица Нюрка Шумакова, завзятая клубная артистка. В местных постановках она всегда играла женщин — ругливых, отчаянных и настырных. Какой и сама была в жизни.
— Вон там справа список нарушителей общественного порядка. — Нюрка выбросила картинно руку и показала пальцем, как какой-нибудь матрос на бронепоезде, идущем в атаку.
— А мы не нарушаем, — с достоинством сказал Гошка.
— Давно ли?
— С самого свержения царизма, — сказал Гошка. — А сельсовет посещаем только по общественным делам.
— Да что вы скажете! — пропела артистка-паспортистка. — И какое у вас зараз дело?
— Вот это самое! — Гошка постучал пальцем по плакату на доске. — «Всенародный сбор средств в пользу испанских детей». Выписывайте квитанцию.
— Дак это же производится на предприятии, через профсоюзы. А у нас только единоличные граждане.
— А я говорю принимайте! — Гошка, набычившись, двинулся на учетчицу, поднялся на крыльцо. — Не имеете права глушить патриотический подъем!
Та сразу сменила тон, вежливо защебетала, препроваживая Гошку вперед, в распахнутую дверь. В канцелярии Гошка вынул из кармана часы, торжественно поднял их за ремешок и сказал:
— Вношу! Записывайте в ведомость: часы серебряные карманные на двенадцати камнях. От гражданина СССР Полторанина Георгия Митрофановича.
Нюрка-учетчица разинула рот, обмакнула ручку в чернильницу и… решительно отложила в сторону.
— Да ты опять никак пьяный, Гошка?
— Молчать! — закричал Гошка. — Прекратить оскорбление моего достоинства! Иначе напишу жалобу.
На крик сейчас же заглянул в дверь встревоженный председатель сельсовета Вахромеев. Выслушав объяснения, рассерженно обернулся к Гошке:
— А ну, дыхни!
Гошка набрал полные легкие и дыхнул: председатель изумленно поскреб затылок и внимательно разглядывал парня. Затем приказал Нюрке:
— Прими, зарегистрируй и оприходуй. А ты, Полторанин, зайди на минутку ко мне. Разговор есть.
Прилетел еще один аэроплан — такой же трескотной, растопыренно-неуклюжий, лягушачьего, зеленого цвета. Этот появился рано утром и не стал куролесить над селом да водохранилищем, а, будто зная, что ему надобно, сразу нацелился на Выдриху, с ходу прилип к сенокосному лугу, как пчела к патоке.
«Однако ремонтники прилетели, — сообразила Фроська. — А ну как заберут с собой Светлану-летчицу да улетят — я и проститься с ней не смогу!» Фроська быстренько договорилась с бригадиршей, скинула рабочую робу и босиком побежала прямой тропкой к Выдрихе.
Версты две, пожалуй, отмахала и все зря: справа, из села по пыльному проселку, в урочище накатилась оголтелая орава черемшанской пацанвы — перед ними на пути к самолетам насмерть встал милиционер Бурнашов, дико орал, выкатив глаза и вскинув над головой руку с наганом: «Назад, стервецы!! Стрелять буду!»
Фроську он тоже не пропустил, упрямо крутил башкой и грозился спустить с поводка собаку — видно, совсем одичал мужик за несколько караульных суток у сломанного аэроплана.
Пришлось ей вертаться несолоно хлебавши. А на участке Оксана-бригадирша накинулась: «Пошто на виду у всех прямо перед директорскими окнами побежала? Соображать надо, телка недоенная. Теперь вот иди, объясняйся: вызывают тебя к главному инженеру».
Фроську это не испугало, хотя и приятного было мало: кому охота выслушивать нудное брюзжание мордатого Брюквина, который теперь наловчился часами бродить по стройке, записывая всяческих нарушителей в засаленный блокнот.
Она вымыла ноги, надела резиновые спортивки и отправилась в управление, на ходу закручивая, пристраивая на затылок косу.
В приемной у пожилой напудренной секретарши спросила:
— Ругать меня вроде вызвали? Дак я пришла.
Секретарша посмотрела на Фроськины тапочки.
— Просекова? Не ругать, а беседовать по кадровому вопросу. — И показала на боковую дверь, — Заходи сюда.
В комнате за столом сидели двое: глыбастый пухлолицый Брюквин в вышитой полотняной косоворотке, в сбоку — залетка Коля Вахромеев собственной персоной. При своем русом чубчике и при реденьких еще, но уже солидно выглядевших соломенных усах. Чужой, вежливо улыбчивый и отчего-то заметно настороженный.
Пахло в кабинете начальственно: дорогими папиросами, одеколоном и хромовой кожей (ну это, возможно, от брюквинского портфеля или от Колиной полевой сумки).