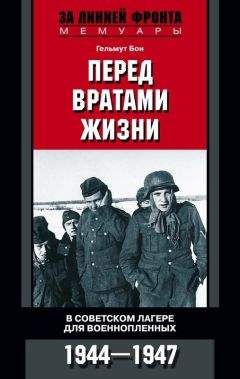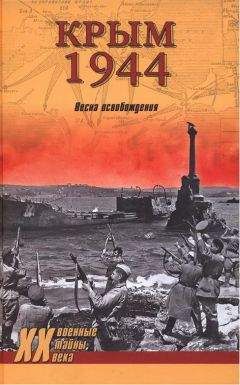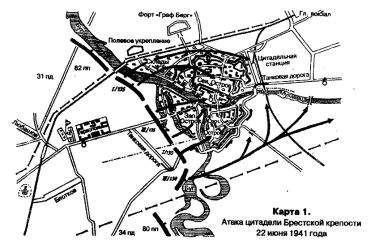— При постоянном нахождении в госпитале около трех тысяч пациентов всегда останется достаточно еды для двенадцати рабочих! — говорит их бригадир. Это Ферман, вместе с которым я был в лагере Антона и в утятнике.
С тех пор мы оба сделали карьеру. Но мы предпочитаем не говорить об этом.
Ферман ежедневно рассказывает мне о последних новостях.
Недавно ребята из его бригады до полусмерти избили одного военнопленного, который вырывал золотые коронки у мертвых пленных, прежде чем раз в неделю их тела вывозились в общую могилу.
Ферман — это тот человек, которого я никогда не забуду.
Каждый день он начинает с чистого листа.
Он забывает многое, что касается его самого или других. Например, что касается меня.
Но всякий раз он сам возвращается к одному и тому же. В этом смысле он похож на американского колониста-первопроходца. Такого человека можно отправить в пустыню, и, в конце концов, пустыня станет такой же, как он сам — плодородной и неистощимой. Например, сейчас он одержим идеей создания немецкого строительного бюро в Осташкове!
После обеда я лежу на койке и рассказываю учителю и музыканту, как я себе представляю наше следующее культурное мероприятие:
— Пошлость и безвкусица — это не так уж и плохо. Можете спокойно добавить немного сентиментальности. Благодаря зрителям все приобретет достаточный вес.
Когда мне надоедает пялиться на оштукатуренный потолок комнаты, я бросаю взгляд в окно и внезапно замечаю на противоположной стороне улицы обнаженную девушку.
До дома, где она на втором этаже моет окно, не более сорока метров. Я продолжаю разговор как ни в чем не бывало, так как не совсем уверен в реальности происходящего.
Но тем временем и музыкант замечает обнаженную девушку.
Мы осторожно подходим к окну. Учитель, музыкант и я. Мы ведем себя как люди, которые долго жили в крупном городе и, оказавшись однажды на незагороженном участке для дичи, впервые увидели пугливую лань.
Никто из нас не произносит ни слова. Это что-то бесконечно далекое, как легенда о том, что женщина призвана волновать весь мир.
Мы больше не верим в это. Мы, военнопленные, которым в последнее время живется получше, сейчас дальше от родины и прежней жизни, чем те, кто голодает, лежа на нарах, и мечтает о возращении домой. Я почему-то прихожу в ужас, когда вижу обнаженную девушку в окне.
Однажды вечером к нам в комнату заходит русский. По его словам, он работает учителем в техникуме.
Мы ведем себя словно важные персоны, когда пододвигаем ему табуретку и предлагаем сесть.
Мы заговариваем о том, что немецким военнопленным приходится голодать.
— Шестьсот граммов непропеченного хлеба и жидкая похлебка, разве человек сможет остаться в живых, питаясь так годами?! — сокрушаемся мы.
— У нас у самих не намного больше! — говорит русский.
— В том-то и ужас! — говорим мы, имея в виду большевизм и неэффективную систему хозяйствования.
— Вы, немцы, получаете здесь в России хоть что-то. А нашим военнопленным в Германии вы намеренно давали еще меньше еды.
— Мы согласны, что в крупных перевалочных лагерях у немцев умирало от голода много военнопленных. Да, это верно. Но как понимать тогда такое поведение русских, когда на улице нас останавливает бывший военнопленный, который находился в плену в Германии, и достает свой кисет. «Камрад! Я был в Германии!» — говорит он при этом.
У русского из техникума есть объяснение и этому:
— Возможно, что многим русским военнопленным жилось в Германии лучше, чем раньше дома в России. Поэтому они все еще с удовольствием вспоминают Германию. Но у Германии и прежде было всего больше, чем у нас. Сейчас у нас нет вообще ничего. Вы, военнопленные, получаете больше хлеба, чем наши гражданские. Русские относятся к вам лучше!
Можем ли мы искать спасение и последнее прибежище в том, что раньше называлось Германией? Могу ли я для собственного спокойствия сказать, что нам просто не повезло?
Многие хотят поговорить с нами на политические темы. Новый офицер-политработник говорит:
— В Советском Союзе пока еще слишком мало коммунистов. Мы знаем это. Однако уже сделано немало. И военнопленные должны понять это. Когда они вернутся домой в Германию, им надо будет просто рассказать правду о нашей стране!
Я испытываю искреннее сочувствие к этому офицеру, когда он сурово смотрит на нас из-под густых бровей и сердится, так как мы вынуждены доложить ему об очередном большом свинстве. Как нам стало известно, комендант небольшого лагеря, старший лейтенант Красной армии, по пути от главного продовольственного склада до самого лагеря, находящегося в лесу, нелегально продает местному населению мешками муку, предназначенную для военнопленных! Политработник приказывает на время следствия отобрать у коменданта лесного лагеря ключи от продовольственного склада и передать их одному из военнопленных. Кроме того, теперь этот комендант может выезжать на главный продовольственный склад только в сопровождении кого-либо из военнопленных!
Но Старый Фриц — так пленные окрестили политработника, потому что он ходит с костылем, — тщетно борется с мощным потоком коррупции.
Мы вынуждаем директора кожевенного завода дать обещание не привлекать к разгрузке барж на озере работающих у него пленных, если они в этот день уже отработали смену сверхурочно.
Но когда приходит очередная баржа, директор звонит подполковнику в главный лагерь. Через минуту приходит приказ, чтобы баржа была немедленно разгружена! Ничего страшного! Работайте день и ночь!
Дело в том, что подполковник регулярно получает от директора кожевенного завода водку. Причем хорошую водку!
Все это так утомляет, это постоянное плавание против течения. И лейтенант Лысенко, комендант городского лагеря, все меньше и меньше заботится о «своих» пленных, как он говорил вначале.
Но однажды он выкладывает собственные рубли — насколько можно говорить о собственных — и идет в кино с пятнадцатью пленными, которых сам выбрал.
Вот уж удивились русские, когда он появился в вестибюле кинотеатра с немецкими военнопленными.
Здесь пахнет духами и плесенью.
Все здесь такое причудливое и странное.
И брюки Лысенко тоже странные. Такие желтые брюки носили штурмовики в Германии. На них сохранилась даже этикетка «Имперская бойня НСДАП». Ну и что из этого?
Нет, я не собираюсь передергивать факты или умалчивать о чем-то. Я часто думаю о том, что полтора года тому назад сказал мне мой друг, капитан из Сибири: «Когда вы вернетесь в Германию, напишите в своих газетах о капитане, у которого вместо зубов были кинжалы. И во рту у него была не слюна, а кровь. А его глаза были красными от ненависти!»
Нет, я никогда так не напишу.
Я размышляю обо всем.
И я все внимательно изучаю, стараясь ничего не упустить из виду. Я не щажу себя.
Я отправляюсь на конюшню, чтобы посмотреть на нашего очередного мертвеца. Он попал между буферами вагонов на узкоколейке. И вот он лежит здесь, под окровавленной русской шинелью. Но в конюшне пахнет только лошадьми, и у меня не возникает впечатление, что здесь лежит труп.
Лицо погибшего пленного стало восковым, как у ангелов на старинных картинах, которые разъедает французская зелень или ярь-медянка.
Теперь я уже даже не помню, почему решил еще раз взглянуть на него.
Но я хочу понять, что я должен сохранить в памяти, а о чем следует забыть.
Самое важное — это человек, когда во всем остальном царит дикий хаос.
Порядочные люди должны занять самые важные посты.
Сначала в лагере.
Потом в Германии.
И наконец, во всем мире.
Они смогут из идиотской доктрины взять самое лучшее.
Я имею в виду эту политику, когда стою под грушей во дворе лагеря.
— Вы должны стать политически грамотными людьми! — не устаю повторять я, обращаясь к военнопленным.
Я ищу людей и в России. Это не значит, что я прислушиваюсь к тому, как старый русский врач, в доме которого я часто бываю, ругает правительство.
— Однажды они бросили меня на целых два года в тюрьму. Теперь я уже старик. Когда «он» вернется, я должен буду снова остерегаться!
А этот «он» — это некий русский Кубин, который в настоящее время учится в школе НКВД.
Как уже было сказано, я не слушаю, когда старый доктор сжимает старческие кулаки и ругает коммунистов.
Чего доброго, он только и ждет, когда я соглашусь с ним, чтобы разоблачить меня как «фашиста».
Хотя дом доктора не выглядит как дом доносчика. Он находится недалеко от лагеря. Типичный загородный домик, спрятавшийся за кустами сирени, какие любят изображать на открытках.
От офицера-политработника, Старого Фрица, я тотчас получил разрешение посещать дом доктора. Дело в том, что у доктора был отличный концертный рояль, на котором наш музыкант мог подбирать хоровые партии для своего хора. Старый Фриц не имел ничего против. Он только спросил, действительно ли концертный рояль так хорош. Если да, то тогда я должен купить этот рояль для лагеря!