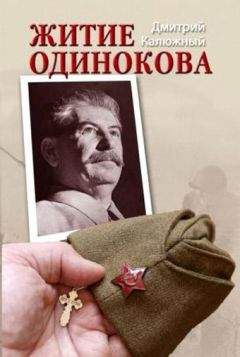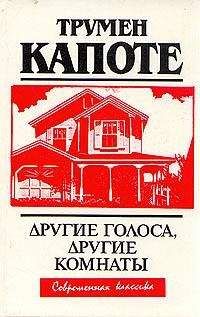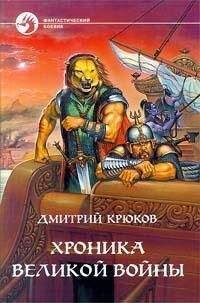Добавляло ненависти и то, что при отступлении враг устраивал засады, ставил мины самым подлым способом, где их никак не ожидаешь. В лесах на соснах прятались «кукушки», которые выборочно отстреливали советских солдат и офицеров из винтовок и автоматов «Суоми» или стреляли очередями по группам людей. Набивали трупами колодцы — кажется, перед уходом специально убивали жителей, чтобы бросить в их же колодцы и лишить деревню воды. Но иногда скидывали вниз трупы собственных солдат.
В освобождённых сёлах Красную Армию встречали с радостью, рассказывали, что пришлось пережить. Ведь грабили, страшно грабили. У больного старика отняли валенки — им же холодно, немцам! — а заодно унесли старые сапоги. Остался он в мороз без обуви, помер. Отняли ватное одеяльце, в котором родители несли в церковь крестить новорожденного младенца. Ребёнок в одной пелёнке, а на улице сорокаградусный мороз! В домах, учреждениях, церквях забирали всё подчистую. Немецкие танки и автомашины не выдерживали морозов — так ничего! — отнимали у крестьян лошадей, грузили отнятое у них же, спешили увезти на свою фашистскую родину.
Убили попа, его молодую дочь и внучку нескольких месяцев от роду только за то, что поп запретил немцам курить в церкви. Мать троих детей гоняли по улице голой…
Объяснить бойцам, что этих неистощимых на выдумки убийц и грабителей надо считать людьми, брать в плен и обращаться гуманно, было очень трудно. Тем более что сами-то немцы тоже пленных не брали; некоторые сёла, бывало, переходили из рук в руки по два раза на дню, и все видели, что эти негодяи делали с нашими, попавшимися им. Из одной деревни ушли спешно, не успев вынести раненых. Немцы легкораненых раздели и застрелили, а тяжелораненых вытащили за околицу, сняли с них тёплое обмундирование и бросили на снегу. А мороз был жуткий…
Наконец, в верхах спохватились. Полетели вниз угрожающие приказы. Командиров рот и взводов батальона Страхова вызвали к комбату, тот объявил: за негуманное отношение к пленным — расстрел.
— Да мы-то что, — мялись взводные. — Мы всегда гуманные. Вот бойцы, бывает, не сдержатся и…
— Мы им и так уж говорили, говорили…
— А разве уследишь…
— Тех, кто убивает пленных, будете расстреливать лично, — отрезал Страхов. — А я, если не выполните приказ, буду лично расстреливать вас. Вопрос ясен?
— Так точно, товарищ…
…В понедельник 6 января, в ночь перед Рождеством лейтенант Василий Одиноков, спрятавшись под брезентухой с фонариком, заполнял формуляры прибывших и убывших по своей роте. Рядом — но не под брезентом, а под пасмурным небом — новички болтали со «старичками» о житье-бытье. Сухари сгрызли, горячего питания, из-за того, что тылы отстали от боевых подразделений, не было уж дня три. Василий приказал всем жевать еловые иголки и глотать сок, для бодрости. Но это разве еда! Глушили голод разговорами.
— …«Катюша», отец, это просто восторг, — говорил один из бывалых бойцов другому, не менее бывалому, сержанту Панову. Он хоть и прибыл намедни с пополнением, но был свой, просто три недели отвалялся в госпитале.
— Расскажите, пожалуйста, — вежливо попросил дядя из пополнения.
— Невозможно рассказать. Это надо видеть.
— Но как оно выглядит-то? — солидно спросил сержант Панов.
— Я расскажу, — вмешался ещё один из «старичков», Никифоров. — Как я под ею впервой побывал. Значитца, так. Стояли мы у деревни одной. Окопались в снегу. Ротный возвращается из штаба. Готовит нас: говорит, комполка просил всех предупредить. Вроде как в помощь нашему полку прислали новое оружие. Он и сам его не видел, но штука мощная, как пальнёт, ни с чем не спутаешь. Ага. Наступление начинать по сигналу, после применения этого нового оружия. Стало быть, как оно рявкнет, будь готов. Велено соблюдать маскировку — ну, знаете, в ночное время нельзя выдавать себя криком «Ура!»
— Да кончай волынку! — не выдержал Панов. — Как она стреляет-то, «Катюша» эта?
…Одинокова поставили командиром роты накануне Нового года, присвоили лейтенанта. На взводе он за себя оставил пока старшего сержанта Сырова. Грамотёшки у того было маловато, но в наступлении негде взять командиров с образованием. Бывший комроты Ежонков ушёл на батальон в их же полку. Там накануне убило комбата.
Потери в живой силе были страшные. Немцы засели в наших же оборонительных сооружениях. Укрепления, которые строили сотни москвичей для защиты столицы, немцы использовали против наступавших войск 1-й Ударной армии. В сёлах и деревнях они устроили опорные пункты, территорию между ними заминировали, сделав так, чтобы все пространства, где могут появиться советские войска, простреливать пулемётным, миномётным и артиллерийским огнём. Они зимой в открытое поле и не совались! Блиндажи, окопы у них… Оборона…
А наша пехота наступала редкими цепями, по голому полю, по глубокому снегу, в мороз — и ещё до контакта с противником выбивалась из сил. А дальше — огонь врага. Поддержка своей артиллерии была слабенькой. Патронов, мин и снарядов не хватало. Снабженцы зачастую просто не могли найти наступающие подразделения или отставали из-за снежных заносов.
Василий из-под своего брезента, превратившегося, правда, уже в некий сугроб, прислушался к разговорам снаружи. А там Никифоров пел свою героическую песню:
— И вот, братцы, часов в двенадцать ночи, или чуть позже, как жахнет! Верите, нет — волосы дыбом, ажно шапка на голове поднялась… — на этих словах он сделал паузу, понимая, что интерес слушателей на пределе.
— И чего? — жадно вопросил кто-то из новичков. Но рассказчик не спешил, смаковал момент внимания к своей персоне. Наконец изрёк:
— Небо в огне от края до края! Ей-богу, не вру — вот те крест. И рёв, такой рёв ужасный — и всё это туда, туда, на немчуру поганую. Восторг, полный восторг. И заорали «Ура!» по всему фронту, я клянусь — все, и мы, и командиры. «Ура! Ура!» — а ночью кричать устав не велит. А наплевать. Нельзя было на это молча смотреть, ну невозможно.
— Ну и ну, — тихонько проговорил новичок из пополнения.
Эти пополнения — чуть не раз в два дня подвозят, а толку-то… С какого-то момента Василий даже старался не выходить к ним, тяжело ему было видеть их смертную судьбу. Вновь прибывшим почти все «старички» годились если не в сыновья, то в младшие братья. Но мужики из пополнения смотрели на пацанов с почтением. Спрашивали: как, мол, воюется? «А ты сам попробуй». На другой день атака, другая, и — привет. Никого из этого пополнения, кроме двух-трёх, нет в живых. Вечером роту опять пополняют до штатной численности. И — опять атака, другая, привет. А комроты Одиноков заполняет формуляры: вчера человек числился в прибывших, сегодня в убывших.
Примерно четверть состава — стабильный костяк, из которого люди выбывают редко. Вот поди ж ты: месяц в нечеловеческих условиях, сплошной боевой поход по морозу — а притерпелись! Спят под соснами, на снегу, подстелив еловые ветки, как сейчас. Ведь если отбили у немцев село, ночевать в нём нельзя. В нём сожжены все дома, кроме двух-трёх. Но как раз эти два-три дома, будь уверен, пристреляны. Заняли наши село, набились в дома, чтобы согреться — и тут без подготовки, точными выстрелами, двумя или тремя снарядами немцы дома сносят, а затем — контратака. Проверено! Знаем уже…
Костров не разводили, временных сооружений не оборудовали. Водки не было — не подвезли. На ночь разговоры вести вообще-то не заведено: согреться бы и выспаться. Но сегодня день особый: сержант Панов из госпиталя вернулся! И беседа пошла.
— После этой пальбы час бредём, снег по пояс, — продолжал вещать Никифоров. — У немцев тишина, ни одного выстрела, только дым, там после «Катюши» всё горит, даже металл. Потом они очухались, видать: вжарили по нам из пулемётов. Залегли мы в снег, комбат вызвал штурмовую авиацию, и как начали горбатые их утюжить, мама дорогая!
— Эх, а я всё пропустил, — страдал Панов.
— Беречься надо было. Вот бы и любовался с нами на «Катюшу».
— Да! А ты вместо этого по госпиталям жировал!
— Зато я в госпитале со Сталиным разговаривал.
— Чего?!
— Врёшь!
В одно мгновение все забыли про Никифорова. Словам Панова и верили, и не верили. Но даже не верящие хотели поверить, и посыпались вопросы: «Где?», «Как?», «Когда?»
— Он к нам в госпиталь приезжал, — пояснил Панов.
— Да быть не может! Сталин? Во фронтовой госпиталь?
— Конечно. Почему нет?
— Врёт он! Делать товарищу Сталину нечего, как по госпиталям разъезжать.
— Может, по пути? Ехал куда-то, ну и…
— Нет-нет! — горячился Панов. — Специально к нам приезжал! Поговорить.
— Что-то я не помню, чтоб в газетах писали, как Сталин ездил на фронт.
— А не хочет он, чтобы про его поездки писали!
— Не, ребята, — убеждал Панов. — Ни журналистов, но фотокоров не было. Сталин и несколько генералов с ним.