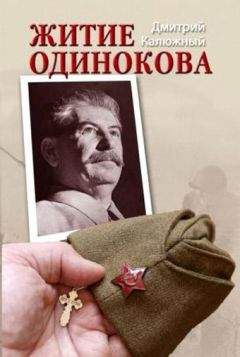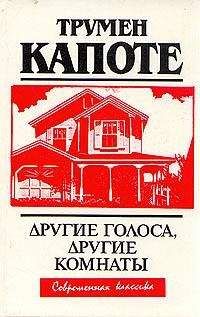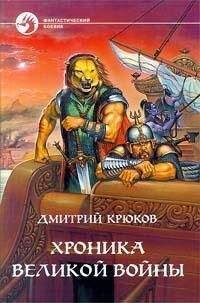— А не хочет он, чтобы про его поездки писали!
— Не, ребята, — убеждал Панов. — Ни журналистов, но фотокоров не было. Сталин и несколько генералов с ним.
Разорались, однако, бойцы. Темнотища, глаз коли, к тому же валит снег, и немцы вряд ли решались бы на вылазку. Но если услышат — вполне могут пальнуть из пушки или из пулемёта. Одиноков высунул голову из-под своего засыпанного снегом брезента:
— Прекратить крики!
Бойцы на время умолкли, но затронутая тема так интересна, что вскоре разговор возобновился, хоть и совсем тихо.
— Сел ко мне на койку, мамой клянусь. На краешек. И спрашивает: как, мол, себя чувствуете, товарищ Панов?
— Ой-ой! Он уж и фамилию твою знает!
— Ему же сказали, как вошёл. Дескать, вот лежит героический сержант Панов.
— Заливаешь ты, героический сержант…
— Да тихо вы! Панов, какой он из себя-то?
— А что ты, Сталина не видел? Такой точно, как на фотках. Вот. Сначала спросил, чем сильны немецкие солдаты и офицеры, какие у них слабые стороны. Я ему говорю: крепко дерутся, но бить можно. Вот морозец ударил, и нам бы добавить! А он и говорит: «Потерпите немного, уже есть у нас кое-какие силёнки для наступления».
— Вот мы и наступаем. А силёнок-то всё равно маловато…
— Не перебивай!
— Потом спрашивает: как, мол, себя чувствуете, товарищ Панов? Я говорю, чувствую себя достаточно здоровым, чтобы бить немцев. Он поправляет: фашистов, говорит. Вы, говорит, товарищ Панов, понимаете, что немцы — разные? Среди них есть наши враги, есть оболваненные Гитлером, но есть и наши союзники! И рассказывает, что во время налётов на Москву многие немецкие бомбы не взрывались. Они были испорченные. И даже в некоторых нашли записки от немецких рабочих, которые не любят фашистов, и нарочно выпустили негодные авиабомбы. Я ни жив, ни мёртв. Сталин! Мне! Рассказывает! А я лежу перед ним, как бревно под одеялом, и даже встать по стойке «смирно» не могу, потому что на мне только исподнее.
— Ты один, что ли, в палате был?
— Не, ну как один? Будто ты в госпиталях не бывал. Это ж бывшая районная фабрика, два этажа. В цеху деревообработки мы лежали. Да… Не сбивай… О чём я? А! Говорит мне: вы, товарищ Панов, чувствуете себя хорошо, и это хорошо, но пусть проверят врачи. Вы можете чувствовать себя хорошо, а что-то не долечено, и вы на фронте окажетесь бесполезным элементом. Ещё спросил, партийный ли я. Нет, говорю. Он улыбнулся так и говорит: «Ну ничего, я тоже был беспартийным». Пожелал мне выздоровления и боевых успехов, и встал.
— Вот это да!
— Ни фига себе!
— Да погодите! Самое интересное впереди!
— Давай-давай!
— Не тяни резину.
— Встал он и спрашивает у начальника госпиталя, полковника: «Где здесь у вас туалет?» Тот сразу: «Идёмте, товарищ Сталин, в отделение персонала, там очень хороший туалет». А Сталин ему: «Нет, вы меня неправильно поняли. Я хочу посмотреть, каковы санитарные условия для раненых бойцов Красной Армии». У полковника этого рожа переменилась, ребята! Он позеленел просто. Он же знает, каковы условия-то!
Слушатели смеялись, пряча лица в воротники полушубков, чтоб заглушить звуки.
— Туалет в госпитале! Представили? Мужики — раненые, кто-то не может руками-ногами управлять, у кого-то они и вовсе отпиленные — у тех, кто ждёт отправки в тыл. Какие уж там условия! Не туалет, а натуральная сральня. Но делать нечего, повели. Дальше я не видел, мне рассказали. Товарищ Сталин посмотрел на это санитарное чудо и приказал начальнику госпиталя взять щётку и лично отдраить помещение до блеска. Тот стоит, глазами хлопает. Генерал, что со Сталиным был, как заорёт на него: «Вы что, не поняли приказа Верховного Главнокомандующего? Выполнять!» И он… И он…
Дальше Панов говорить не мог, да и некому было слушать: все хохотали, не скрываясь. Василий хотел на них прикрикнуть, но его самого душил смех. Наконец, переборов себя, высунулся, приказал:
— Всем спать!
* * *
— Привычка — вторая натура, — сказал батальонный комиссар Загребский.
— Даже спорить не буду, — ответил ротный командир Василий Одиноков.
Последние несколько дней они встречались ежедневно, болтали о том, о сём. Это была очень колоритная парочка: Загребский, в свои 45 лет черноволосый, как пацан, и молодой Одиноков — седой, как лунь. Комиссар был единственным человеком, с которым Василий откровенно говорил про свои странные способности угадывать смерть. Он мог бы поговорить об этом ещё с Мироном Семёновым, но где тот Мирон? Ни слуху, ни духу.
В этот раз, устроившись с чайком в отбитом у немцев блиндаже, обсуждали, сколь быстро человек привыкает к тому, что вчера показалось бы необычным. Например, к смерти. До войны человек видел покойника, только когда умирал кто-то из родственников. Это не так часто случается. А вот война. Сначала каждый убитый вызывал страх и ужас. Но — привыкли! Бойцы ежедневно видят мёртвыми тех, с кем вчера делили сухари, пили водку, играли в «махнёмся не глядя».
Для Василия разница была в том, что вчера никто из этих бойцов не знал, кому назавтра выпадет умереть, а он, Василий — знал. Загребский высказал мысль, что ему в таком случае легче пережить реальную смерть товарищей, ведь он к тому, что они погибнут, подготовлен. Вася посмотрел на него с удивлением:
— Легче? Завтра погибнет Степан Петрович Третьяков. Он учитель. Преподавал детям литературу. Добрейший человек, эрудит. Он у нас всего три дня. А Коля Ступин с нами два месяца. Из боя выйдем уже без них и ещё двух десятков наших товарищей. А поведу их в бой — я. Поведу, зная, что они будут убиты. Чем же это мне легче?
— Да, я не прав. Извините, Василий, — Загребский был удручён. — И всё-таки в бой идти придётся, вы понимаете?
— Конечно, — ответил Василий с сомнением. — Я, Иван Степанович, не стратег, и мне непонятно, чего мы всё лезем и лезем. Тылы отстали. Поддержка артиллерии и авиации всё слабее, не то, что было в первые дни наступления. Не успеваем провести разведку, а уже приказ: «Вперёд». Немцы-то воюют умелее! У них укрепления, у них ручной пулемёт МГ-34. Одно немецкое отделение с таким пулемётом способно перебить мне роту! Зачем эти лобовые атаки, Иван Степанович?
Загребский помолчал. Они тут были одни, но он осторожничал. Сказал тихо-тихо, наклонившись к собеседнику поближе:
— Я вам скажу, Василий. Дело в том, что между политическими и военными руководителями нашей 1-й Ударной армии — большие контры. Командарм против лобовых атак. Требует беречь людей. Да вы знаете, приказ читали.
— Читал. Каждый командир должен проникнуться чувством личной ответственности за сохранность людей. Ха-ха!
— Ну, добиваться побед с наименьшими потерями — это правильное указание… Так вот, командарм желает проводить хорошо продуманные атаки. А комиссар отчитывается за освобождение территорий! И с меня того же требуют. Я вам так скажу. Такое двуначалие вредит. Но это между нами. Я всё-таки политработник, хотя у самого на душе тяжело…
Василий слушал, а в голове его перекатывалась молитва, которую он слышал в Перемилове, при погребении павших: «Покой, Спасе наш, с праведным рабом Твоим, и сего всели во дворы Твоя, презирая прегрешения его вольная и невольная». Вот в чём дело! Души людей достойных, погибших за Родину свою, но маловерных, а то и вовсе безбожников, попадут к Господу, не успевши в мире этом раскаяться в грехах вольных и невольных. А у человека лишь одна попытка пройти этот путь. Он, Василий, фактически погиб тогда, в селе Кузьминка — разве нет? Господь вернул его к жизни, так что теперь он сам — между миром Господним и миром вещным.
— Царствие Его не от мира сего, — произнёс Василий без всякой связи с предыдущим разговором.
— Что? — не понял Загребский.
— Гибнет-то тело! Его закопали, и всё. А душа? Она отправляется к Нему, а там, наверное, всё иначе, и то, что можно сделать здесь, нельзя там.
— Вы что, верите в душу? — с сомнением спросил комиссар.
— Да вы же сами сейчас говорили, что у вас «на душе тяжело».
— Это просто фраза! Оборот речи!
— В таком случае, где у вас тяжело? Что за орган чувствует ответственность за людей?
— Я к такому разговору не готов, Василий.
— А я, похоже, готов…
За месяц, прошедший после боя за Перемилово, Одиноков преуспел в распознании будущей смерти. Что значит — опыт… Стал «видеть» её за час до гибели человека. Он «видел» это, когда направлял на кого-то взор свой, но не глазами, это было что-то другое. Механизма «видений» он понять не мог, хотя и понимал, что они — частный случай появившейся у него сразу после разговора с Господом способности духовно подниматься над землёю, ощущать массовый переход людей в Царство иное. Дважды Василий пытался анализировать это и бросил, когда сообразил, что через такие попытки сам помрёт.
— Нет смысла смешивать материалистическую философию с досужими догадками, — бубнил комиссар. Он сам ни в какую душу не верил, а к Одинокову ежедневно ходил из тех соображений, что тот ему заранее сообщит дату возможной гибели, и он, Загребский, как-нибудь убережётся. Для таких надежд были объективные причины. Неделю назад, при освобождении села Матрёнино, комиссар убедился, что Одиноков многое может. Трое остались живы, послушавшись указания Василия, который предвидел их смерть — а произошло это событие на глазах Загребского!