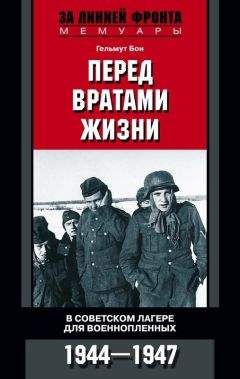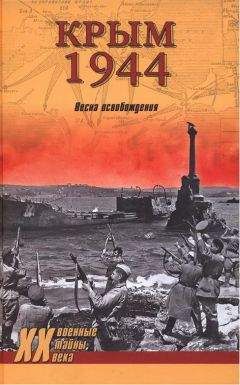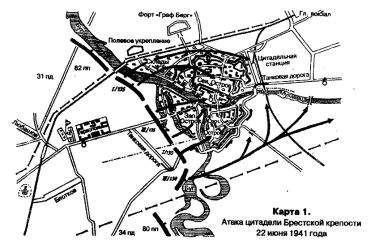Я чувствую, что меня удостоил доверия человек, который уже много повидал на своем веку.
Я чувствую, что моя жизнь вновь приобретает смысл.
Я намереваюсь еще многому научиться в жизни, и никогда не вешать голову, и не печалиться из-за того, что мне в известной степени приходится все еще ждать перед вратами жизни. Конечно, меня очень угнетает то, что два года тому назад я покинул жену, так и не выяснив, любим ли мы еще друг друга или уже нет.
Наверняка она часто думает обо мне. Так же как и я о ней. Но я продолжаю носить рваный голубой пуловер, который был таким красивым, когда она связала его, будучи еще невестой, только потому, что не хочу обидеть преданную душу.
Конечно, я люблю свою жену. Несмотря ни на что.
Но я знаю, что сейчас моя голова забита другим. Тем, о чем Ларсен рассказал мне сегодня.
Я иду вдоль полотна узкоколейки и не могу нарадоваться на свои сапоги. Я радуюсь тому, как приятно пахнет сено на заливных лугах вдоль берега озера. Я радуюсь крестьянину, идущему мне навстречу.
— Здравствуйте! — приветствую я его.
— Здравствуйте! — говорит он в ответ.
Вдоль берега озера по направлению к городу идет девушка. Свои туфли на высоких каблуках она перекинула через плечо. Она наденет эти красивые туфли с блестящими пряжками и высокими каблуками только перед самым входом в город.
Это одна из миллионов русских девушек, которые следят за собой. Она наполовину крестьянка, наполовину горожанка. Девушка с грацией благородной лани.
— Здравствуйте! — говорю я, глядя ей в лицо.
— Здравствуйте! — с достоинством отвечает она. В ее голосе нет ничего вызывающего. Ничего похотливого.
Она произносит это приветствие своим низким грудным голосом совершенно естественно, без всякого жеманства: здравствуйте!
Какие бы прекрасные времена настали на земле, если бы все люди всегда вели себя так же естественно: говорили бы только то, что думают! Не более и не менее того!
Некоторых русских возмущает тот факт, что у Ганса, Карла и меня есть отдельная комната в доме на Евстафьевской улице.
Но мы не собираемся переезжать в лагерь. Об этом не может быть и речи! Тогда уж лучше мы переедем в церковь, если нет другого свободного помещения!
В церковном помещении высотой двадцать метров холодно и пусто, вокруг следы крайней запущенности. Эта церковь находится рядом с лагерем.
— Хорошо, мы останемся здесь! — соглашаемся мы.
Наши три кровати бесследно исчезли, и их невозможно нигде отыскать. Наш книжный шкаф меньше спичечного коробка.
Здесь когда-то стояли верующие, а священники в роскошном одеянии благословляли их. С галереи звучал хор. Здесь сияли иконы в серебряных окладах. Ведь это всемирно известный Троицкий собор!
Но сейчас с высокого алтаря на нас смотрит лишь голая кирпичная кладка. На ней еще остались крюки, на которых когда-то висели иконы. На боковых стенах сохранилась даже роспись. В некоторых местах видны следы от пуль. Вот над водными просторами парит фигура Христа, грозящего поднятым пальцем.
В изданной в Москве «Истории древних времен», которая имеется на немецком языке и в нашей библиотеке для военнопленных, написано: «Наука однозначно доказала, что Бога нет!»
«Религия — опиум для народа!» — так звучит ленинский тезис.
По этой причине, а также из-за того, что попы благословляли телесные наказания, собор был закрыт и осквернен.
Там, где раньше над гробницами лежали большие каменные плиты, сейчас находится яма для проведения смазочных работ при ремонте автомашин. Подземный ход засыпан. Стоит вонь от гниющего мусора и нечистот. В комнате позади ризницы только штукатурка напоминает о былом величии. Это восьмиугольное помещение построено в стиле барокко. В прежние времена здесь размещался рабочий кабинет архиерея.
Вечером мы укладываемся спать в разграбленном храме. Возможно, собору не позволят разрушаться и дальше, думаю я, тщетно пытаясь уснуть.
Местный совет поспешил со сносом большой церкви на центральной площади города. На плане города, который они получили из Москвы, церковь еще стояла. Теперь местные власти Осташкова оказались в затруднительном положении. Товарищи из Москвы вдруг захотели сохранить эту церковь. Но от нее осталась только колокольня с часами!
Когда я думаю о Фермане, который рассказал мне историю Катковой, главного архитектора города, то неожиданно слышу, как в ночном соборе что-то оживает. Совершенно отчетливо в воздухе слышен какой-то шелест. Я не мог ошибиться. Это мне не почудилось. Однако я не могу объяснить причину возникновения этого странного шума.
Ферман действует и в своих интересах. Его бригада так искусно расписала здание театра в Осташкове, что весь город пришел в восторг от немцев, которые выполнили эту работу. И только товарищи местные художники и маляры подали в горсовет жалобу: якобы немцы слишком балуют заказчиков. Но главный архитектор города Каткова человек со вкусом. Кроме того, пленные обходятся дешевле. Я пытаюсь представить себе, как выглядит эта Каткова, но высоко под куполом собора опять раздается странный шелест. Это никак не может быть ветер, проникший сюда со стороны озера, в пучине которого совсем недавно опять бесследно исчезла лодка с восемью румынами на борту.
Это не могут быть и совы, залетевшие в собор через вентиляцию. Четко слышится какое-то проскальзывание, словно кто-то шелестит длинными одеяниями.
Я вспоминаю, как с некоторых пор в лесном лагере пленные увлеклись спиритизмом, используя для своих сеансов какой-нибудь столик. Прежде чем оправиться в путь, какой-нибудь пленный ночью часами сидит в бараке за маленьким столиком. Потея от напряжения, он желает получить ответ от каких-нибудь духов, будет эта поездка удачной или нет.
Даже немецкий врач часто тоже сидит за маленьким столиком, бормоча что-то себе под нос. Иногда даже днем.
— Повесьте хотя бы одеяло! — говорит Ганс. — Нечего остальным пленным видеть, как мы тоже занимаемся этим!
Староста лагеря вызывает дух своего умершего кузена Якоба.
— Он всегда был дерзким мальчишкой! — бранится он, так как кузен Якоб не хочет отвечать на его вопрос.
Я потешаюсь над ними:
— В качестве новейшего военного имущества я предлагаю использовать столик. В будущем каждый, начиная с унтер-офицера и выше, получает по столику, который будет носить на ремне за спиной!
Как бы там ни было, но шелест высоко под куполом собора не прекращается! Может, разбудить Ганса? Ну уж нет! Я еще раз прислушиваюсь. Никакого сомнения: что-то шелестит в воздухе. Что-то постанывает. Трется по стенам. То там, то здесь.
За долгие месяцы плена мои нервы так истрепались, что я готов поверить во все, что угодно. Почему же в заброшенном соборе не может быть чего-то жуткого?
Но как выяснилось позже, это были всего лишь черные вороны. Они влетали через открытое окно под купол собора, теряли ориентацию и, задевая крыльями стены, скатывались вниз.
Так в эти летние месяцы причудливо переплелось анекдотичное с высокодуховным, частное — с общественнополитическим.
Хотя в этом лагере тоже было нелегко, но зато у нас за все лето никто не умер.
После того как на кожевенном заводе был размещен филиал лагеря, все зажили намного лучше. Там имелся немецкий лечебный рыбий жир, который использовался в сотнях бочек для обработки кожи. Нескольким пленным удалось раздобыть для нас целую двухсотлитровую бочку рыбьего жира. Теперь уже никому не грозила дистрофия. И только из-за того, что лагерная медсестра была на редкость твердолоба, пленных опять заставили остричься наголо. А ведь у многих уже отросли красивые длинные волосы!
Осень 1945 года обещала быть хорошей.
Но осень и так всегда была для меня самым удачным временем года.
И вот я со спокойной совестью ожидаю наступления осени. Ничто не может потрясти меня осенью. Возможно, именно поэтому осенью несчастья обходят меня стороной.
Другие хвалят весну. Но только не я. Возможно, это связано с тем, что школьником я всегда боялся получить к Пасхе плохие оценки в школьном табеле.
Нет, я однозначно за осень.
И осень 1945 года, вторая осень в плену, тоже начиналась хорошо.
Хотя опять ходили разговоры, что три активиста на каких-то пятьсот военнопленных слишком сильно обременяют бюджет. Но до сих пор мне всегда удавалось выходить из затруднительного положения.
Для меня ничего не значило, если несколько недель мне приходилось работать в колхозе.
Но на этот раз с направлением нас на работу в колхоз дело обстояло действительно серьезно. Уже была середина сентября, когда колхозы взмолились о помощи.
Поскольку рабочие бригады не формировались, то всех военнопленных погрузили на баржи и распределили по деревням, расположенным на берегу озера.