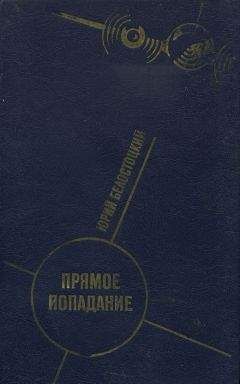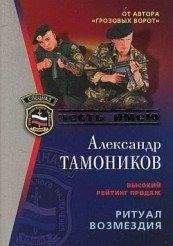Бурноволоков не отвечал, продолжал стоять молча, в той же позе, чуть подавшись вперед. Да и что мог ответить он, новичок, прибывший в эскадрилью час-два назад, когда даже однополчане Доронина, вот уже второй год тянувшие с ним вместе солдатскую лямку, не решались слово вымолвить, лишь пришибленно взглядывали друг на друга да виновато переминались с ноги на ногу. А потом Бурноволоков понимал, что весь этот сыр-бор загорелся как раз из-за него, что, не появись он сегодня или вообще в эскадрилье, здесь все было бы тихо и мирно, все бы шло своим чередом, как и должно идти в боевой, давно слетанной авиационной семье. А он появился, и все полетело к чертям собачьим: и эта чистая, уютная землянка с пышущей жаром печкой, и по-особому симпатичные, какие-то домашние лица летчиков, и даже этот наивный, пошленький «подкидной дурачок», словом, все, что после долгой и тряской дороги от станции на аэродром, после холодного и нудного дождя, барабанившего в стекла кабины старенькой полуторки, казалось раем, располагало к отдыху и покою. И вот ничего этого уже нет, а есть лишь темные, грубо проконопаченные стены землянки, потрескавшаяся печь, злое, в суровых складках, лицо Доронина и неприятно коптившая керосиновая лампа. И все. Остальное, что еще недавно радовало, согревало душу штурмана, исчезло, и он, так и не ответив на вопрос Доронина, продолжал стоять будто в оцепенении.
И простоял бы, верно, долго, если б в землянке вдруг не появилось новое действующее лицо. Это была официантка из летной столовой Жанна, или, как в шутку называли ее на аэродроме за необычайно смуглый цвет лица, огромные круглые медные серьги и разбитной характер, Дама Пик. Жанна вошла не сразу — через дверь в землянку сперва донесся ее возмущенный грудной голос: «Я тебя, паразита, научу, как с культурной женщиной обращаться!» — не иначе, Жанна отшивала кого-то из приставших к ней мужчин, — а войдя — в глазах у Жанны — ноченька темная, под кофтой — два мощных кучевых облака — начала с ходу, без предисловия, будто заведенная, только чуть сменив интонации:
— Ужин стынет, а им хоть бы хны. Вы что же, мальчики мои миленькие, сегодня натощак решили ложиться? Так имейте в виду: не каждой женщине это может понравиться, — и вдруг, заметив незнакомого белокурого красавца со шрамом на щеке, протянула с наивным простодушием: — Ой, да у вас никак новенький? А я, дуреха, и не разглядела, — и тут же по инерции сделала ему глазки.
— Плохо, выходит, глядишь, — подал от стола голос Доронин и одарил ее свирепым взглядом — за глазки, верно.
— Плохо? Ничего, Платоша, еще рассмотрю, успею. Я ведь зоркая, насквозь вижу, — мгновенно нашлась Жанна и, как бы следуя его совету, намеренно чинно прошлась перед Бурноволоковым и смело оглядела его с ног до головы.
— Ну и как? — заинтригованно спросил кто-то из летчиков, почуяв возможность позабавиться и хоть на время позабыть о распре в эскадрилье.
— Натурально витязь в тигровой шкуре, — серьезно а с вызовом, не дав расцвести глумливым улыбкам, ответила Жанна и уже, будто, кроме них, в землянке больше никого не было, — Бурноволокову, робко, с девичьей стыдливостью, как бы намереваясь этим сокрушить неприступность штурмана: — Стихи, случаем, не пишете?
Бурноволоков недоуменно повел плечом.
— Нет, не пишу.
— Жаль. Может, попробуете? Между прочим, до войны у меня был один знакомый, тоже из военных, так стихи все писал. Про любовь. Возвышенно так. До слез. Может, все-таки попробуете?
— Чего пристала к человеку? Отвяжись! — опять, но уже не так злобно, осадил ее Доронин и, как бы извиняясь за нее перед штурманом, добавил с наигранной беззаботностью: — Вот репей-баба! Никому проходу не даст, за каждую штанину цепляется.
Как ни вульгарна, на первый взгляд, показалась Жанна Бурноволокову, а при последних словах Доронина и ее натура не смогла стерпеть такое: Жанна надменно — большие медные серьги сердито звякнули — откинула назад голову, зло изогнула левую бровь и, сузив, насколько это было возможно, свои огромные, широко поставленные черные глаза, отпарировала так, будто занозу под ноготь всадила:
— Ревнуешь, мой миленький? Боишься, как бы я его, — царственный жест в сторону Бурноволокова и новый звон серег, — невзначай не приголубила? Что ж, ревнуй, а то ведь и взаправду приголублю. Кавалер что надо, — и, не дожидаясь ответа, первой рассмеялась беззвучным, похожим на кашель, смешком, от которого Бурноволокову стало не по себе. В этот миг Жанна и впрямь напомнила знаменитую Даму Пик, и штурман, успев сообразить, что Доронин не иначе как ходит у нее в любовниках, искренне его пожалел: отчаянна не в меру.
Сам же Доронин и бровью не повел, видно, понял, что Жанну сейчас голыми руками не возьмешь, что ее лучше пока не трогать, и, неуклюже встав из-за стола, лишь бросил мимоходом и как-то примирительно:
— Плетешь несуразное. Язык-то без костей. — Потом, после чрезмерно затянувшейся паузы, добавил вновь окрепшим голосом: — А ужин и в самом деле стынет. Пошли, ребята. А то кишка кишке кукиш кажет, — и, не сомневаясь, что летчики, как всегда, хлынут за ним следом, первым, точно вожак в гусином стаде, вперевалку двинул к выходу.
Хлопотать Доронину за Бурноволокова не пришлось. На другой день он и без того был зачислен к нему в экипаж. Заполучив такого бравого, по его мнению, штурмана- всем, дескать, взял! — Доронин, с утра ходивший туча тучей, снова повеселел, обрел прежнюю уверенность: на его широком, багровом от природы, лице опять поселилась довольная улыбка, а во взгляде сухих, без блеска, глаз — то особое выражение, какое бывает у человека, знающего себе цену.
Доволен был и Бурноволоков. Ведь что бы там Клещевников вчера ни наговорил, Доронин был летчиком боевым, опытным, не меньше, а, пожалуй, больше других понюхавшим пороху. Недаром его гимнастерку уже оттягивал «боевик» [18] и медаль «За отвагу», а висок рассекал рубец, оставшийся от встречи с «мессерами».
И все же радость штурмана была неполной. Хотя он не хотел признаться себе, ее как раз и омрачала эта вчерашняя стычка стрелка с летчиком. Правда, после, уже в столовой, во время ужина, непреклонная Дама Пик, узнав о стычке от Тамбовцева, помирила их, даже заставила выпить на брудершафт — кто старое, мол, помянет, тому глаз вон, однако Бурноволоков чувствовал, что настоящего примирения все же не произошло. Он видел, что стоило Доронину встретиться взглядом с Клещевниковым, как в глазах его появлялись отчужденность и холодность, словно их припорашивало снегом. Клещевников в таких случаях тоже как-то неуклюже улыбался и спешил отвернуться либо уйти, чтобы не оставаться с летчиком наедине. В будущем, особенно в чужом небе, это, понятно, ничего хорошего экипажу не сулило, и Бурноволоков дал себе слово во что бы то ни стало помирить их окончательно, помирить до того, как они начнут ходить на боевые задания. Как человек новый, он, конечно, не мог, да, пожалуй, и не пытался разобраться, кто из них был прав, а кто виноват, хотя и понимал, что Клещевников говорил тогда искренне. Но ведь искренность — не всегда правда. К тому же говорил он все это сгоряча, под пьяную руку, значит, мог и ошибиться. Ну, показалось Степе, почудилось, так что из того? Во все колокола трезвонить? Правда, Константин Тамбовцев, бывший в тот вечер вместе с ними на ужине, тоже ругнул Доронина, что тот не послушал тогда Рудакова, скомандовавшего — стрелок слышал это по СПУ — уходить от «мессеров» пикированием, потом на бреющем, а Доронина черт понес зачем-то вверх, на высоту, где их и подловили, но Доронин вполне резонно возразил:
— А внизу, когда мы еще туда шли, вторая группа «мессеров» ходила. Рудаков сам их видел. И Степа тоже. К тому же, заметь, это было под Алакурти. А там, сам знаешь, на каждом шагу зенитки. Вот я и потянул вверх, к облакам. Да только не успел малость, — добавил он с сожалением и так сдавил рукой столешницу, что едва не отломил от нее щепу.
Вот потому-то Бурноволоков и не спешил с выводами. Доронина же он просто-напросто жалел, как жалеют человека, случайно попавшего в неловкое положение. И все же глядеть на него стал куда более внимательнее, чем прежде. И кое-что открыл для себя. Еще на том же ужине, когда пили за примирение, его поразила в Доронине та холодная убежденность, даже жестокость, с какой он советовал Клещевникову, если тому, не дай бог, случится одному остаться на вражеской территории, поступить с оказавшимися на его пути людьми, будь то женщина или ребенок.
— Ты учти, Степа, — потея над бифштексом с луком, неспешно поучал он Клещевникова, а заодно, быть может, и Бурноволокова, благо он сидел тут же рядом и был бы дураком, если б не прислушивался к тому, что говорили бывалые летчики. — На войне так: или ты его, или он тебя. Середины нет. Вот, скажем, тебя сбили. Ну, парашют ты запрятал, следы, как говорится, замел и пробираешься к линии фронта, чтоб домой, значит, вернуться. На пути встречаешь хутор. А здесь, сам знаешь, одни хутора. Жрать тебе, конечно, охота, как из пушки. Не выдерживаешь, заходишь. В доме, к примеру, старуха древняя да мальчуган лет десяти — двенадцати. Конечно, если попросить или заставить, они тебя накормят, а может, и спать уложат. Да только не ложись. Если ляжешь, уснешь — считай, пропал. Ты — голову на подушку, а они тут же к полицаям либо шюцкоровцам [19]. И все, накроют тебя как миленького.