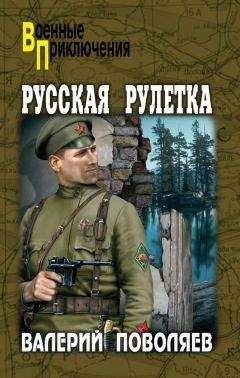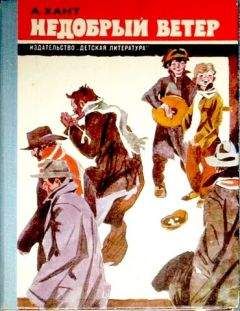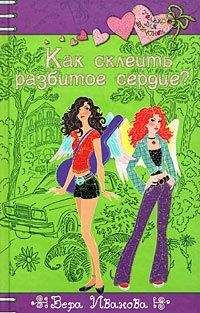Не знал Владимир Николаевич Таганцев, что ждёт его впереди, не знал, к сожалению…
— Маша, познакомься, это мой старый товарищ, он, можно сказать, из английских лордов — сэр, — Сорока взял руку Сердюка за локоть и протянул сердюковскую руку Маше. У Сердюка был такой вид, будто он обжёгся, на губах появилась неуверенная улыбка. — Да, самый настоящий сэр. Сэр Дюк.
— Да будет вам, — тихо улыбнулась Маша, сделала изящный девчоночий книксен, которому её когда-то научила хозяйка.
— Честное слово — сэр. Сэр Дюк.
— Да будет вам, будет! — снова попросила Маша.
— Не добрёл мёдочка до божьего храма, — засмеялся Сорока, сделал манерное движение, стёр слёзку с глаз, подержал её несколько мгновений на пальце и смахнул на пол.
— Ты знаешь, что я вспоминал два дня назад? — проговорил Сердюк, улыбнулся какому-то своему видению, пришедшему из прошлого, неведомому Сороке, и чуть не вздрогнул, когда Сорока сощурил серые глаза и подбил пальцем несуществующую бороду:
— А где ты был два дня назад?
Два дня назад Сердюк был в Петроградской чека. Спину ему прокололо холодом, сверху вниз поползла жгучая капелька пота.
— Сам знаешь где, — сказал он. — В пути, приближался к Петрограду. Границу переходить, кстати, становится всё труднее, большевики научились её охранять.
— Да-а, — неопределённо протянул Сорока.
— Я вспомнил нашу зимовку в Гельсингфорсе, снег, солнце и породистых собачонок, которых мы выводили на публику прогуляться.
— У меня был пуделёк по кличке Мими, — на лицо у Сороки наползла лёгкая тень, глаза, напротив, посветлели, сделались незнакомыми. — Повернуть бы время вспять и вернуться в прошлое, — произнёс он ни с того ни с сего, и Сердюк понял его: Сердюк сам хотел вернуться в прошлое и начать новый отсчёт в своей жизни. — А как звали твою собачонку?
— У меня была болонка по кличке Флинт.
Маша наблюдала за ними: неужели эти взрослые люди могли держать на боевых кораблях каких-то собачонок, ещё породистых?
— Ах, какие это были прогулки! — воскликнул Сердюк и жеманно воздел руки к потолку. — Свежий воздух, высокопоставленная публика, светские разговоры о Франции и воде Босфора, о Лондоне и отелях Рио-де-Жанейро! — он скосил глаза на Сороку. — Ты чего? — спросил Сердюк. — Не заболел ли?
— Нет, — качнул головой Сорока, — а вообще-то, лорд, вляпались мы с тобою в историю.
— Об этом не будем! — быстро проговорил Сердюк, подумал, что товарищ его ощущает то же самое, что и он, не знает, куда деться от душевной тревоги, и ему надо помочь — Сороке надо обязательно помочь, но сам Сердюк не мог этого решить, надо было спрашивать разрешение у Алексеева. «Серёжке надо обязательно помочь, но не сейчас, не сейчас…» Сердюк перевёл взгляд на Машу. — Даме наши разговоры неинтересны!
— Ну почему же? — Маша приподняла одно плечо.
— Мы с Машей решили пожениться, — сказал Сорока. — Как только кончится вся эта заваруха.
— Серёжа! — предупреждающе проговорила Маша.
— Извини, пожалуйста. Мы просто с Машей до поры до времени решили никому ничего не сообщать, — сказал Сорока. — Но тебе можно, ты свой! А Маша — единственно близкий мне человек, — Сорока притянул Машу к себе за плечи, — больше никого на свете нет.
— Сирота, — не выдержав, поддел Сердюк.
— Сирота, — подтвердил Сорока без улыбки. — Когда женюсь — перестану быть сиротой.
— Богатый дом, — оглядевшись, произнёс Сердюк, — и хозяина нет.
— Хозяин есть, — сказала Маша, — человек добрый и простой. Умный. Не голова, а Учредительное собрание, или этот самый… Реввоенсовет!
— Это ты у меня реввоенсовет! — Сорока сбил с машиного плеча невидимую пылинку. — Самый главный из всех реввоенсоветов!
— Хозяин есть, но он вчера уехал в Москву.
Сердюк кивнул — теперь неважно, куда уехал Таганцев, а о том, чья это квартира, он знал не хуже служанки.
— А пока мы с Сережей здесь хозяева, полные, — Маша даже засветилась: ей нравилась просторная барская квартира, потолки с лепниной и масляной росписью вокруг центрального плафона, тишина, тяжёлые портьеры и запах ухоженного дома. Стены здесь такие, что удержат, отдадут жильцу даже самое малое тепло — здание построено с умом, с толком.
— Плюнуть бы на всё и тоже уехать, — проговорил Сорока, глянул в окно, словно в амбразуру. Глаза его остро блеснули. — Провалиться сквозь землю, что ли!
— Нельзя, — вздохнул Сердюк, подумал о встрече на Польском кладбище. До встречи оставалось совсем немного.
— Эх, мама, роди меня обратно! — произнёс Сорока с выражением, и Машин взгляд сделался встревоженным: она всё понимала. Ничего — почти ничего! — не знала, но всё понимала, и Сердюка в сердце кольнуло лёгкое завистливое чувство, он тут же подавил его, подумал, что насчёт мамы Сорока, может быть, и прав, но лучше уж дожить до старости — тихой, мудрой, позволяющей умереть в своей постели.
Наверное, это большое счастье для человека, прожившего жизнь, умирать не в кустах где-нибудь, не на чужбине, лёжа на обочине грязной дороги, а у себя дома, в постели. И кто знает, как сложится жизнь, как повернётся судьба — его, Сороки, Машина, кем они станут, во что превратятся.
В конце концов станут тленом, прахом, пылью. Рот его скорбно сжался, он положил руку на плечо Сороки.
— У нас и тут есть ещё дела кое-какие. А?
Маша спохватилась:
— А чего я вас здесь держу? Вы проходите, проходите! Лучше на кухню — там уютно.
Она понравилась Сердюку: будет у приятеля на старости лет утешение и отрада — если, конечно, до старости он доживёт, — крупнотелая, с влажными карими глазами и круглым милым лицом малоросски, с низким тихим голосом. Маша быстро вскипятила чай, заварила его морковкой, подсушенной на сковороде, достала несколько сухариков, бережно выложила их перед моряками, потом поставила на стол синюю стеклянную сахарницу, украшенную виньетками. На дне посудины лежало несколько мелких, порубленных щипцами на кубики кусочков сахара. Маша выложила последнее, что у неё было.
— Г-господи, когда же наступят тёплые времена! — жалостливо проговорила она, и взгляд её потух. Маша жалела, что не может накрыть гостям стол, какой не раз накрывали в этом доме. Сердюк посмотрел в окно и только потом сообразил, что под тёплыми временами подразумевается не только погода, а времена, когда пахнет тёплым хлебом, и сделал сложный вопросительный жест рукой, отвёл её в сторону, как владелец лавки, говорящий покупателю «нет», «не знаю» и «всё в руцех Божьих».
Двадцать седьмого мая в природе произошло смещение — что-то там сломалось, что-то отпустило, и с Маркизовой лужи принёсся тёплый влажный ветер. «Самая пора расцветать сирени, — подумал Сердюк. — Ещё после таких сдвигов из земли прут грибы. Как бешеные. Хочется грибов. Очень хочется грибов!» — он поморщился жалобно, одолевали дурные предчувствия, настроение было никудышним, как у человека, занемогшего без всяких надежд на излечение — пройдёт совсем немного времени и он сгниёт.
Ему почудилось, что день припахивает ладаном, словно бы из церквей специально нагнали этого сладковатого вязкого духа, заполнили им пространство, взбили, чтобы запаха вышло побольше. Он снова сморщился: дух ладана — всё равно, что дух тления, пахнет попом и мертвецами, а этот запах с некоторых пор казался Сердюку неприятным.
Польское кладбище поражало обилием бедных памятников — куда ни посмотри, всюду облупленные, словно бы сооружённые не из камня, а из глины, памятники, тусклые, необихоженные, пыльные, зато надписи витиеватые, с громкими девизами, хотя перед Богом все равны, ему безразлично, кто под каким девизом жил. И ещё было много сирени. «Вот она… Пора зацветать, — устало подумал Сердюк, — но ведь и сирень что-то пахнет ладаном. Почему всё пахнет ладаном? — Ему вновь, как и днём, сделалось неприятно, тёплый воздух проник в кости и обратился там в холод. — Всё, быть мне мёртвым», — подумал он.
Воздух загустел, изнутри налился таинственным, будто в нём самом и рождённым, светом, в тёплом предночии предметы обрели ясность, контуры стали чёткими, рисованными — обычно и предметы, и воздух, и сама природа становятся такими перед затяжными холодами, а здесь это произошло в преддверии тепла.
Сходка была матросской — никого чужого, никого из гражданских, «штатских шпаков», никого из профессоров «Петроградской боевой организации» — только свои! Сходились люди медленно, будто им пришлось прорываться сюда с боем, с потерями, выныривали из кустов сирени, украшенных мелкими бледными цветочками, отдувались, спрашивали друг друга: «Хвоста не было? Точно не было? Иначе беды не миновать!»
В четырёх углах кладбища выставили постовых, чтобы те наблюдали за округой, свистнули, если что, но постовые оказались так себе: ни один из них не заметил, как кладбище окружили чекисты.