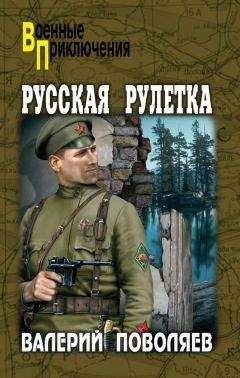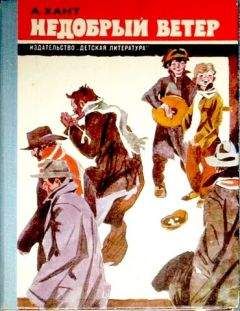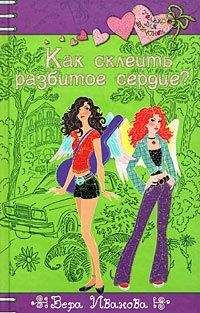— Слышь, Шерстобитыч, этот мужик обладает одной великой способностью — находясь на виду, он невидим, — сказал Сердюк.
Шерстобитов неожиданно диковато глянул на него — похоже, он не понял, что сказал Сердюк, — вопросительно приподнял одно плечо.
— Я не удивлюсь, если он сейчас возьмёт и растворится в воздухе. Был человек и — фьють! — нет его. А речь-то, речь-то! Тихая, вкрадчивая, как у кота.
Коптелов был против террористических актов, против нападений на совучреждения, против убийств и поджогов, против разъединения с профессорами, и вообще против того, чтобы показывать нос на улицу.
— Ну и котяра! — Сердюк усмехнулся. — Любит есть сметану втихую. Чтобы никто не видел и не слышал. Этот кот, наверное, даже мышей боится.
…Расходились поздно, когда свет, питавший небо, ослаб, разредился, в нём появились серые пятна — мелкие облака, проступившие на огромной высоте, земля набухла влагой, на ноги наматывалась грязь. Было тихо, спали даже воробьи. Лица у моряков были недовольные — так ни о чём и не договорились. Орловский злился, на ходу бил кулаком о кулак:
— Телята, а не матросы, — ругался он, — каждый одеяло на себя тянет. Да мамке под титьку норовит нырнуть — молочка хотца! — Орловский стискивал зубы, и на щеках у него возникали маленькие, каменисто-твёрдые желваки. — С такими вояками хорошо только горох жрать!
С Орловским шло ещё четверо моряков.
— Один глядит в лес, другой в овраг, третий в степь, тьфу! — Орловский цыкнул на моряков: — А вы чего окружили меня, как цыплята курицу? Законов маскировки, что ль, не знаете? Максимум по двое надо! И расходимся, расходимся! Отчаливай от меня!
Он первым вошёл в сырой сиреневый тоннельчик, пахнущий распускающимися почками и молодой крапивой, отвёл в сторону густую ветку и почувствовал, что его кто-то взял за руки. Взял крепко — не вырваться. Даже если он вылезет из одежды.
— Тихо, кореш! — услыхал он жёсткий шёпот. — Не рыпайся!
Орловский набрал побольше воздуха в грудь, чтобы закричать, и в следующий миг плоско распластался в воздухе — рывок был страшным, двое незнакомцев опередили Орловского.
— Тебя же предупредили — тих-хо! — вновь услышал он жёсткий сдавленный шёпот. — Ещё одно движение — и дырка в голове тебе обеспечена, понял?
— Понял, — Орловский дрогнул всем телом, словно его от макушки до коленок проколол ток сильной корабельной динамомашины, сжал зубы, поморщился от того, что дыхание его сделалось жарким, запаренным, плечи и спина стали мокрыми.
Матросы, которые шли за ним, будто сквозь землю провалились. Как привидения, были — и нет их! Орловский всё понял, сгорбился.
— Отпустите, — тихо попросил он. — Я никуда не убегу. — Обжим на руках ослаб. Орловский скосил глаза влево, увидел незнакомого чернявого матроса с дёргающейся щекой, глянул вправо, там его крепко держал один из матросов, что увязался следом с кладбища.
— Чека? — спросил он неверяще. Мелькнула слабая мысль: а может, с ним собираются разделаться за былое, за то, что осталось в прошлом — мало ли кому он мог плюнуть в суп, прожечь дырку в штанах, дать втихую по уху, либо на бегу поставить подножку: за тридцать с лишним прожитых лет всякое было. Орловский споткнулся, ноги у него подогнулись.
— Чека! — подтвердил моряк с дёргающейся щекой.
Гулко сглотнув слюну, Орловский накренился вперёд:
— Не верю! — в ту же секунду сделал резкий рывок вперёд, повис на руках моряков, просипел: — Пустите, падлы!
— Тихо! — предупредил его чекист с дёргающейся щекой и сунул под подбородок холодный ствол. — Ша!
Орловский засипел, вывернулся всем телом, стараясь освободить руку, лягнул Крестова ногой, растопыренной ладонью умудрился залезть к себе в карман, но ухватить рукоять браунинга не сумел. Из глаз полетели красные брызги, густое сеево, сплошной поток, на минуту он ослеп, перестал видеть, повис на руках чекистов, а когда пришёл в себя, то обмяк совсем и заплакал: в кармане браунинга уже не было, из штанов чекисты выдернули ремень с начищенной латунной пряжкой. Орловский понял, что шансов больше не осталось ни одного, затрясся всем телом. Плакал он совершенно беззвучно.
Ни одному из тех, кто участвовал в сходке на кладбище, не удалось уйти, — взяли всех.
Той же ночью на квартирах Комарова и Ромейко были сделаны обыски. Были найдены типография, динамит, бомба иностранного производства — как потом выяснилось, для уничтожения Красина, — оружие, семь чистых трудовых книжек, печать и штамп с надписью «Чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным тифом».
События начали раскручиваться с киношной быстротой — замелькали люди, лица, конные экипажи, чадящие чёрным вонючим дымом машины, мир поднялся на дыбы, чекисты действовали стремительно, разом появляясь в различных концах города — на Петроград была накинута целая сеть, и улов оказался богатым.
Боцману Тамаеву повезло. Раису Болеславовну Ромейко он считал избалованной барынькой («У барынек свои капризы: на собственный палец плюнет и, если это пальцу не понравится, то на дворе рубят головы двум гусям», — довольно складно говорил он и вертел в воздухе огромной красной ладонью, отклячивая большой красный палец.), на кладбище не был, встречался с Саней Брином, вечером они с Раисой Ромейко повздорили, и Тамаев насупился, налился алой кровью, в ушах у него зашумело.
Если бы другая ситуация и другое место, он высказал бы барыньке всё, что о ней думает, либо поступил ещё круче — взял бы её за тощую птичью шейку и окунул пару раз в канал. Если бы Раиса не поняла, в чём дело, оставил бы её плавать в мутной воде, среди дохлых, погибших в любовных весенних муках лягушек. Слишком уж барынька писклявоголоса, с дурным характером и скрипучей костью — с какой стороны к ней ни подойдёшь, она то скрипит, то пищит, то бровь выгибает гневной дугой — того гляди, ударит молнией. Раиса Ромейко в свою очередь также брезгливо относилась к Тамаеву, от которого постоянно воняло то табаком, то чесноком, то гнилыми зубами, то всем вместе сразу, квартира от моряков пропиталась потом, плохо выстиранными носками, сложным духом оружейного масла, горелого пороха и ваксы. Всё это вызывало у неё раздражение, ощущение изжоги, того, что в карман её забралась чужая рука. Если к одним — например, к ловкому, с серыми девчоночьими глазами Сороке или к худенькому, хмуролицему Краскову, который месяц назад исчез и больше не появлялся на квартире, видать, отбыл в Финляндию, — она относилась сносно, терпела их, то на Тамаева несколько раз жаловалась Шведову. Шведов успокаивал её, говорил, что это временно, просил немного подождать, но Тамаеву ничего не сообщал. В борьбе политической бытовые осложнения совсем не нужны, справедливо полагал он.
Подопечная команда отправилась на митинг. Тамаев поворчал, угрюмо сузив глаза: «Баловство всё это — слова тратить», но потом сдался — на митинге должны быть его люди, и Тамаев отпустил моряков. Сорока ушёл к Таганцеву — за квартирой профессора в его отсутствие должен кто-то приглядывать, так велел Шведов. С Тамаевым остался только Мишка, паренёк, прибившийся когда-то к Краскову.
Моряков долго не было. Тамаев, который не зажигал лампу — берёг керосин, и так было светло, — велел Мишке:
— Спать, парень! Спать!
Мишка безропотно улёгся на постеленный под узким длинным подоконником бушлат — на полу было спать жёстко, но Мишку это устраивало, — накрылся ветхим сереньким одеялом, принесённым Раисой Ромейко из чулана, и прежде чем уснуть, сказал:
— Дяденька Тамаев, знаете, чего бы мне хотелось?
— Чего? — недовольно пробормотал Тамаев, подивился — с чего это вдруг пащенок заговорил? Словно бы голос у него прорезался.
— Граммофон, — сказал Мишка.
— Граммофон?
— Ага! Граммофон с переводными картинками на боку. Чтоб было много-много картинок.
— Блажь! — проворчал Тамаев, подошёл к окну, замер, слушая дом, сдувая самого себя, слушая через стекло улицу; что-то не нравилось ему эта весенняя тишь. В весеннюю оттепель всё оживает, земля начинает двигаться, на поверхность выползает разная живность, и червяки, чтобы подышать, травы споро идут в рост — треск только идёт, птицы заливаются, орут так, что кружится голова, воздух полон звуков, а тут тихо, как перед большой войной. Он задержал в себе дыхание.
Внутри было тревожно, что-то болело, что именно, он не мог понять. Тревога буквально висела в воздухе, она была осязаемой. Тамаев достал из кармана часы, беззвучно отщёлкнул крышку. Стрелки показывали одиннадцать часов ночи — митинг на кладбище только-только начался.
— Ладно, — сказал Тамаев и решил на ночь не раздеваться, быть в полной готовности — мало ли что, как говорят, бережёного Бог бережёт. Что-то не нравилась ему нынешняя ночь. Матросы спали на полу, а он на кровати. Кровать была мала для Тамаева. Мягкая продавленная сетка скрипела, скрипели основательно смазанные керосином, чтобы не заводились клопы, суставы этой койки, скрипели стены и пол, скрипели просквоженные, мореные морозом и ветрами кости Тамаева, боцман ворчал, проклиная панцирную койку — жалкое барское сооружение: «Пепельница, как ни ляжь, всё ноги свешиваются». Проворчал и сейчас: — Тьфу, банка консервная!