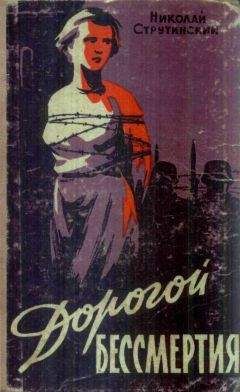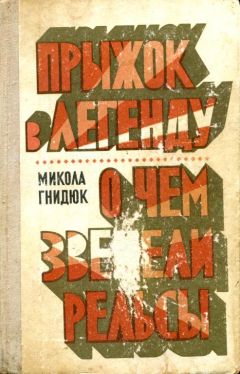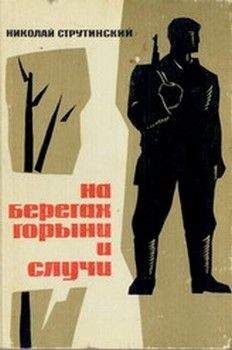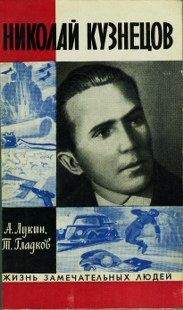«Как пройти вовнутрь лагеря? — мучилась Паша. — Если бы это удалось, я бы улучила момент и передала нескольким раненым пленным медикаменты. Но как это сделать? Как? Прибегнуть к помощи Герберта?»
Во время встречи Паша слезно попросила:
— Я буду вам очень обязана, Герберт, если вы найдете предлог взять меня с собой в лагерь.
— Мне там нечего делать, а вам тем более.
Заметив негодование девушки, Герберт вдруг обратился к молитвам. Он напомнил о библейском Моисее, который много страдал.
Паша не поняла, к чему он приплел Моисея, и продолжала настаивать. Она пыталась объяснить, что страдания не должны стать уделом сотен и тысяч мужчин, повинных лишь в том, что они любят свой дом, свою землю, свою Родину. Разве за то карают?
— Я однажды вам говорила, Герберт, мне очень хочется облегчить страдания людей. Помогите мне в этом сейчас. Через несколько дней я уже буду работать в другом месте.
В душе Герберт хотел оказать помощь, но он боялся дать повод для опасных разговоров. И все же пообещал поговорить с начальником лагеря. Возможно, проведет там допрос двух или трех военнопленных, а она будет вести протокол.
Солнце не щадило томившихся за колючей проволокой узников. Они изнывали от жары, жажда донимала вторые сутки, а воду не подвозили. Когда Паша вместе с немецким переводчиком ступила за колючую проволоку, сердце ее учащенно забилось, по красивому лицу разлилась бледность. То, что она увидела, буквально потрясло: лежали трупы, стонали раненые. Напрягая волю, Савельева закусила губу до крови, готова была разрыдаться, как ребенок. А тут еще до ее слуха донеслись обидные реплики отчаявшихся парней:
— Эй, барышня, продаешь всех сразу или каждого в отдельности?
— Смотрите, как она подладилась под немца!
— Сколько тебе платят за ночь?
У Паши закружилась голова. Каждое слово било в сердце. Но нельзя себя выдавать, и она овладела собой настолько, что на лице даже появилась улыбка. Паша преднамеренно отстала от переводчика и приблизилась к лежавшему на земле с перевязанной ногой военнопленному. На вид ему можно было дать все пятьдесят. Заросшее лицо, впалые щеки. Лишь черные глаза блестели и говорили о молодости.
— Вам перевязку делали? — скороговоркой спросила Паша.
Военнопленный испытующе посмотрел на нее: почему она спрашивает? Разве ей не известно — здесь никому никаких перевязок не делают! В ранах заводятся черви, люди выковыривают их палочками, а пораженные места засыпают пеплом…
— Вот мазь и бинты. Только об этом никому ни слова! Как ваша фамилия?
— Петров.
Паша подошла к другому раненому. Белобрысый, совсем еще юный парень наотрез отказался от услуг.
— Не твоими руками наши раны перевязывать! Мотай дальше! — и так зло посмотрел, что Паша больше не решилась с ним заговорить.
Домой Паша пришла с разбитым сердцем, долго не могла успокоиться. Ее волнение передалось матери, пристально наблюдавшей за дочкой.
— Пашенька, тебя на всех не хватит, образумься!..
— Ой, мамочка, как там страдают! Как страдают! Ты бы посмотрела! — Паша заплакала.
— Знаю, милая, не сладко им, видать, да ты себя побереги, ведь извелась вся.
Алексею Дмитриевичу Ткаченко Паша охарактеризовала обстановку в лагере. Она подробно рассказала, как туда пришла, с кем беседовала.
— Необходимо быстрее готовить документы.
Ткаченко сосредоточился, прикидывая в уме. «Известно, надо, но как сделать, дабы комар носа не подточил? Сложно, очень сложно!»
— Время не ждет, Алексей Дмитриевич, видимо, без риска не обойтись.
— Я попробую. А какие бланки нужны — «аусвайсы» или «мельдкарты»?
К ответу Паша не была готова.
— А по каким скорее выпустят?
— Из лагеря — по справкам, а «аусвайсы» — временные паспорта — необходимы для прописки в городе. Вот когда пропишутся, тогда нужда появится в «мельдкартах» — справках о работе. Вот так.
— Готовьте и то и другое.
Задание было нелегким. Малейшая неосторожность грозила провалом. И все же в условиях строжайшего надзора Ткаченко принялся его осуществлять.
На работу Алексеи Дмитриевич пришел раньше обычного. Заглянул в печатный цех, но вдруг за спиной услышал протяжное:
— Д-о-о-брый д-е-ень!
— А, это вы? Здравствуйте, — спокойно приветствовал Ткаченко фольксдойча Заганского.
Под стеной у окна стояли стопки отпечатанных бланков удостоверений. Их было много, но, видимо, пересчитаны, а фольксдойч топтался тут не случайно. Дай только повод, пусть даже малейший, и он, конечно, донесет.
— Почему не отгружают? — безразличным тоном поинтересовался Ткаченко. — Сколько накопилось!
— Такой товар не залежится.
Улучив момент, когда Заганский отлучился в другой цех, Ткаченко торопливо подбежал к одной из стопок, снял несколько бланков, сунул их в карман и как ни в чем не бывало начал возиться у печатной машины.
— Слыхали новость? — пропищал вернувшийся в цех фольксдойч. — Рядом с приказом генерала Шене сегодня появилась листовка. Оглянулся по сторонам: оказывается — подпольная! Вот басурманы, не дают нам житья!
— Не слыхал.
Ровно в девять в цех вошел плотный офицер в коричневой форме со свастикой на рукаве.
— Хайль! Все готово? Сколько пачек? Опись сделали? Прекрасно!
Немец весело посвистывал. По всему видно — у него было прекрасное настроение. Солдаты погрузили бланки на машины. Алексей Дмитриевич облегченно вздохнул. «Пронесло!» В тот же вечер он передал Паше обещанные бланки.
— У меня было такое состояние, — рассказывал Ткаченко, — будто на мне заметили рога Мефистофеля.
Паша рассмеялась громко, задушевно. Алексей Дмитриевич присел на стул, медленно дышал и только улыбался, вспоминая, как ловко обманул фольксдойча. И все-таки внутренне холодел при мысли, что мог «засыпаться». Пытали бы на медленном огне.
Паша прислонилась к шкафу, где спрятала принесенные бланки.
— Спасибо, Алексей Дмитриевич, не подвели. — И спохватилась: — А как же с печатью?
— Сделал. Когда принести?
— Хорошо бы завтра.
Савельева встретилась с Наташей Косяченко на квартире у Марии Ивановны Дунаевой. Говорили они тихо, но всем не терпелось поскорее испробовать себя в «настоящем деле». Задержка произошла из-за круглой печати, которую обещал сделать Ткаченко. С его приходом все повеселели. Получилась ли печать? Попробовали на бумаге. Отличная! Теперь осталось заполнить бланки. По рекомендации Ткаченко договорились писать так, чтобы в случае чего немцы не узнали, чей почерк.
Все задумались. Ведь, кроме них, никто не должен знать о документах. Но тут, в наступившей тишине, звонко прозвучал голос Дунаевой:
— Я могу писать и правой и левой рукой. В детстве этим баловалась, а теперь, видите, пригодилось!
— Ну, ну, покажи свое искусство.
Все склонились над листком, в котором старательная рука Марии Ивановны выводила: «Громов Николай Григорьевич, 1914 года рождения, украинец, проживает в городе Луцке».
Отпечатанный на ротаторе бланк, удостоверяющий, что солдат Громов является местным жителем, рассматривали придирчиво: правильно ли заполнены графы, на месте ли печать. Потом бланк сложили вчетверо и снова развернули, любуясь «чистой работой». Наташа Косяченко вслух похвалила:
— С таким документом к самому гаулейтеру не страшно пойти. Верно?
Все это так, да кто его отнесет в канцелярию лагеря?
— Я, — вызвалась Дунаева. — Мне в аккурат, снесу его вроде от «украинского краевого комитета помощи».
На следующий день Мария Ивановна пришла в канцелярию. Ее не сразу принял начальник. Пришлось потолкаться, пока она переступила порог его кабинета.
— Ваша фамилия?
— Дунаева.
— Громов ваш родственник?
— Нет! Но за него, как местного жителя, хлопочет комитет помощи.
— Знаю. Пользы только от него никакой, калека он.
— Подлечится, господин начальник.
В один из осенних дней на удостоверении с круглой печатью появилась заветная резолюция «освободить». Советский офицер Петров, отныне под фамилией Громов, хромая, выбрался наконец из-за колючей проволоки. Среднего роста, широкоплечий, с серыми глазами Петров опирался на палку и выглядел далеко не бравым солдатом. За время пребывания в лагере он чуть сгорбился, шаркал по земле больной ногой.
На Луцк опускался вечер. Не обращая внимания на боль в ноге, сильную слабость и головокружение, Громов старался скорее уйти подальше от этого страшного места. После нескольких шагов он не устоял перед искушением и оглянулся. Не оставляло недоверие к фашистам. Он думал: вот-вот его схватят и опять загонят в лагерь. Подгоняемый таким чувством, Громов быстрее заковылял. Вокруг не было никого. В синей дымке одиноко виднелся силуэт замка Любарта, который, как серая глыба, возвышался на западной окраине города. Стены его, аккуратно сложенные из красного кирпича, высоко вздымались кверху, а с четырех сторон по краям над ними маячили квадратные башни с бойницами. У самого замка, метрах в ста, извивалась река Стырь, через которую был переброшен деревянный мост.