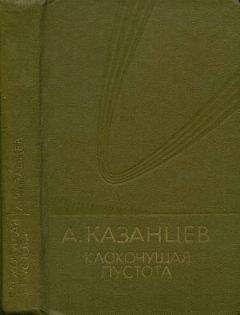На следующий день до обеда у нас свободное время. Мой старый знакомый, пражский старожил, ведет нас, небольшую компанию приезжих, показать город. У него больше вопросов, чем объяснений достопримечательностей Праги, и разговор носит характер интервью, где спрашивает он, а отвечаем мы все по очереди.
— Скажите, а почему, собственно, Манифест подписывается в Праге?
— Я думаю потому, что это славянский город. Нельзя под таким документом ставить, скажем, Берлин, и обречь его на такое малопривлекательное название, как «берлинский манифест».
— Ну, это правильно, — соглашается он. — Дай Бог, чтобы Прага в нем отразилась только географически, Дай Бог, чтобы душа ее не отразилась, маленькая, сухая, лишенная чувств.
— Вы, кажется, очень не любите аборигенов?
— Очень, — соглашается он. — Их и нельзя любить. Это не народ, а сплошная математика. Все душевные переживания их можно без труда заменить четырьмя правилами арифметики — сложить, вычесть, хорошо, если можно умножить, плохо, если разделить. И это всё, больше ничего нет.
Мы выходим на Вацлавскую площадь. После разбитого Берлина, серости и убогости, царящих в Германии, Прага кажется каким-то сказочным островом. На улице сотни молодых, прекрасно одетых, сытых, праздных. Женщины в мехах, с красиво подведенными глазами. Колоссальные зеркальные витрины магазинов — не разбито ни одного стекла.
— Посмотрите, — говорит наш спутник, показывая на проходящих молодых людей. — Ведь это армия, призывные возраста. Во всем мире ни в одном городе вы не увидите мужчин этих лет, разгуливающих по улицам. И это всё результаты арифметического расчета. Когда Гитлер поставил ультиматум, их Генеральный штаб быстро подсчитал, во что обойдется сопротивление и что они потеряют, если сдадутся без боя. Вышло, что без боя дешевле. Всё равно, большая война была на носу, а значит, и их освободит кто-нибудь. А ведь это была лучшая по вооружению армия в Европе… Вот и гуляют все бывшие вооруженные силы по улицам, за девушками ухаживают, ну, конечно, и немцев ругают. Они ведь, чехи, считают себя самой большой жертвой Гитлера. Они, бедные, без устали работают на всех своих заводах, вооружают немецкую армию пять лет лучше, чем это могли бы сделать сами немцы. Правда, в душе при этом остаются, как они говорят, добрыми чешскими патриотами. Я был на улице, когда входили в Прагу немецкие части. Вызнаете, хоть бы один инцидент, хоть бы одно недоразумение. Хоть бы женщина какая что-нибудь крикнула. Немцы вошли сюда как в старую, удобную обжитую свою казарму.
— Мне кажется, вы все-таки слишком жестоки к чехам, — возражает кто-то из спутников. — Они тоже как-то боролись. Помните, убили здесь какого-то Гендриха, или как его звали?..
— Так ведь убили-то не они, — парашютисты убили, с английского самолета сброшенные. А эти потом прятались, чтобы их в это дело не замешали, да ругали тех, кто это сделал. Были потом пострадавшие, конечно, и среди них, а вы знаете, почему?
— Нет, не знаю.
— Парашютисты после убийства скрылись в церкви, вон там, за углом. Довольно долго скрывались. Нужно было кормить их, собирались пожертвования, да господа жертвователи, знаете, что потребовали? Чтобы списки велись, а им квитанции за пожертвования на руки выдавались, кто из них пожертвовал, и что, и сколько — с расчетом на потом, когда война кончится. Ну, их по этим спискам и потянули.
— Ну, слушайте, — уже с нетерпением возражает кто-то, — а Лидица, ведь целое село уничтожили, со всем мужским населением.
— Вечная память жертвам Лидицы, — отвечает он, — как вечная память всем жертвам этого зверя. Но ведь Югославия, Польша, вся западная часть России — это ведь сплошная Лидица. Там ведь не села, а города расстреливались поголовно… Не люблю я их и не верю им. Математики!
— Ну, да дело с ними иметь мы не собираемся и детей крестить тоже, — кончаем мы разговор.
Позднее дело с чехами, к сожалению, пришлось иметь. И если Прага была местом, где Движение могло назвать себя своим полным именем, то эта же Прага стала потом и последним этапом его тяжелого пути. Манифест был провозглашен на Градчанах, в испанском зале дворца Вся процедура, там проведенная, и вся поездка — только для видимости, только для того, чтобы под текстом документа можно было сделать короткую пометку — «Прага, 14 ноября 1944 года»
Вечером, после совместного ужина с гостями — на вокзал и обратно в Берлин.
Прямо с поезда я еду в редакцию. Захожу в машинное отделение и через несколько минут с первым экземпляром первого номера «Воли народа» отправляюсь в Далем.
По дороге в редакцию и оттуда домой я всегда прохожу мимо тюрьмы Александер-плац. Вот тут, за стеной, может быть, в нескольких метрах от меня, томятся наши заключенные. Многих из них последнее время опять перевели из концлагерей в Берлин. Шестой месяц идут непрерывные допросы… Со многими из них меня связывают годы детства, учебы и работы в организации. Со многими из них у меня дружба, та, что заменяла всю жизнь семью. Проходя мимо тюрьмы сегодня, я не сомневаюсь в том, что теперь мы им сможем помочь. Мы попытаемся передать им первый номер «Воли народа» По фамилиям авторов статей они поймут, что мы, их друзья, живы, по программе Манифеста увидят, что дело, за которое они страдают, восторжествовало…
По дороге я часто вспоминаю, что вот уже десять, пятнадцать тысяч Манифеста отпечатано. За это велась тяжелая, трудная борьба больше трех лет, потребовавшая от нас жертв, невозвратных и незабываемых. Я вспоминаю слова Михаила Алексеевича Меандрова: «Если нам удастся отпечатать Манифест, распространить его и перебросить на ту сторону, то наше ожидание наполовину уже будет оправданно».
К моменту опубликования Манифеста с этой стороны фронта в пределах к тому времени уже очень урезанной с востока и запада Европы насчитывалось от 18-ти до 20 миллионов русских. Это составляло свыше 10 % населения нашей страны, но политически удельный вес этой массы был неизмеримо большим. С этой стороны почти не было детей и людей старше 20-ти лет. И военнопленные, и привезенные на работу были или совсем молодыми людьми? или вначале так называемых средних лет. Беженцы были, как правило, более старших возрастов, но ни многодетные семьи, ни старые люди не могли двинуться в такую неизвестность, да и не могли уйти в такую даль. Если они и уходили от родных очагов, то еще до границ Советского Союза их настигал быстро двигающийся на запад фронт.
Главную массу количественно составляли «осты». Их насчитывалось до 12 миллионов, в то время нередко цитировалась даже такая подробность, что 8 миллионов их занято в сельском хозяйстве и 4 в промышленности.
До пяти миллионов считалось беженцев, несмотря на большую быстроту передвижения сумевших каким-то образом добраться до границ Германии и перейти через них. Следующей по численности была группа военнопленных, разделенная на рабочие команды, мало чем отличающиеся от «остов». Около 800 тысяч было служащих в германской армии. По политическим настроениям эти массы делились на три неравные группы.
Одна часть, немногочисленная, состоящая, главным образом, из вывезенных на работу и военнопленных, была настроена просоветски. Настроения эти питались не признанием совершенств советского строя над всеми другими, а были результатом отталкивания от Германии, как врага России, и надежды, что перенесенные здесь страдания помогут оправдаться по возвращении на родину перед советским судом. По-настоящему коммунистических настроений нельзя было бы обнаружить и среди этой группы. Эти настроения были вообще немыслимы вне пределов досягаемости НКВД.
Другая, такая же малочисленная, группа считала, что, несмотря на все преступления немцев, несмотря на тот обман, с которым они подошли к нашему народу, нужно все-таки идти с ними до конца. «От них потом легче будет освободиться, чем от Сталина», — говорили они.
Подавляющее же большинство находило неприемлемыми ни тех, ни других, ни немцев, ни большевиков. Лишь в крушении одного и другого рабства они видели возможность не только свободно жить, но и просто выйти живыми из этой двусторонней бойни. «Ни немцев — ни большевиков» уже перестало быть мечтой и пожеланием, а стало насущной необходимостью и единственно приемлемым и возможным выходом.
Трудно найти слова, чтобы рассказать о том подъеме, о том взрыве энтузиазма, которыми встретили русские люди создание Комитета и опубликование Манифеста. Рабочие и военнопленные, солдаты вспомогательных частей и беженцы — всё это бросалось на призыв к борьбе против большевизма. Самотеком по всем углам небольшой уже тогда Новой Европы создавались группы и общества содействия, собирались средства, пожертвования, крестьяне приносили свои незамысловатые драгоценности, серебряные нательные кресты и обручальные кольца, рабочие — свои скромные сбережения, собранные за годы тяжелого труда. Во все инстанции Комитета приходило ежедневно до трех тысяч писем и телеграмм, с изъявлением готовности принять посильное участие в борьбе. Комитет считал, что в той или иной степени за участие в Движении высказалось в первые же дни больше 10 миллионов человек.