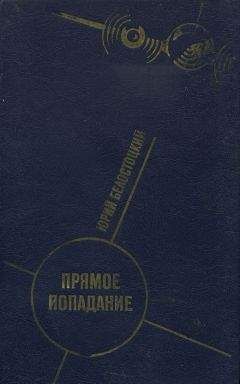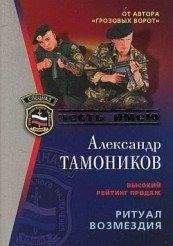Зато вражеский аэродром, который им предстояло разведать, он увидел еще издали, километров за тридцать. Он только что нанес на карту условные пометки и собирался отложить планшет в сторону, как аэродром, зажатый лесом, словно обручем, вдруг вызывающе блеснул бетонкой взлетной полосы, и с этой секунды уже не переставал маячить перед глазами, каждое мгновенье напоминая о себе, даже когда штурман, занятый другими делами, на какое-то время отрывал от него взгляд.
Магическую силу аэродрома, верно, почувствовал и Доронин. Увидев его вслед за штурманом, он тоже как-то судорожно, будто его начали стеснять привязные ремни, двинул плечом и, не поворачивая головы, обеспокоенно произнес чуть изменившимся голосом:
— Он, кажись?
— Он самый.
— Когда снизимся, не забудь включить фотоаппарат, — и, чуть громче, уже Клещевникову: — Как в хвосте, Степа?
— Чисто, — вместе с резким щелчком послышалось в наушниках шлемофона.
«Нервничает», — решил Бурноволоков и, уже более придирчиво оглядев заднюю верхнюю полусферу — его зона, — опять нацелился на приковывавшую взор бетонку острым взглядом. На миг ему показалось, что бетонка вдруг пропала, словно окунулась в клубившуюся волнами далекую синеву леса, и тут же появилась снова, только переменила цвет, из белой стала розоватой, как разрезанный надвое недозрелый арбуз. А вот приблизиться, доверчиво распластаться под самолетом она явно не спешила, только дразнила его, играла с ним в прятки, и у штурмана, с возрастающим беспокойством следившего за этой игрой, невольно принявшего в ней участие, вскоре создалось впечатление, что самолет так никогда и не подойдет к этому распроклятому бетону, с которого в каждый миг могли взлететь истребители противника, будет вечно висеть у него на виду над этим вот, вытянувшимся кишкой, озером с островком посредине, висеть одиноким и беспомощным, точно живая мишень, пока какой-нибудь настырный «мессер» или «фоккер» не зайдет ему в хвост и не всадит парочку сочных очередей. Это ощущение усилилось, когда аэродром через минуту снова сменил цвет и по нему, вперемежку с бликами, точно бы задвигались какие-то неясные серые тени, заклубилась пыль, и Бурноволоков, оборвав вздох, не удержался, чтобы не метнуть нервный взгляд на указатель скорости, косо ломающий циферблатом солнечный луч. Но и стрелки, застывшие на пределе, не успокоили его, и он, как бы не поверив собственному зрению, перевел горячечный взгляд уже на моторы — сперва на правый, потом — на левый. Моторы гудели ровно и слитно, на одной волне, винты по-прежнему усердно молотили воздух, вычерчивая лопастями прозрачные дрожащие круги, и тогда он понял: это страх. И он, этот страх, быть может, еще долго студил ему кровь и кипятил воображение, если б вскоре в наушниках шлемофона, как укор, не раздался спокойный голос Доронина:
— Пора, Иван, снижаемся.
Бурноволоков мгновенно отрезвел и, царапнув плечом турель, ответил поспешно:
— Да, пора. — И, как бы защищая глаза от солнца, круговым движением поднес руку ко лбу и незаметно смахнул с него пот.
Почти у каждой половицы был свой голос, и когда командир эскадрильи, в раздумье меряя из угла в угол штабную землянку, наступал на ту, что издавала какой-то, не похожий на другие, звук, он резко вскидывал голову и устремлял нетерпеливый взгляд на сутулившегося над телефонным аппаратом бритоголового сержанта в темно-синей, довоенного образца, гимнастерке с голубым кантом.
«Ну как? — означал этот его взгляд. — Ничего нет?»
В ответ сержант только круче сутулил плечи и, до синевы надувая гладко выбритые щеки, принимался изо всех сил дуть в молчавшую трубку, что, по его мнению, должно было означать: «Пока ничего, но я, как видите, стараюсь», и командир, сцепив руки за спиной, снова начинал молча вышагивать по землянке, пока случайно опять не наступал на вздыхавшую половицу.
Остановив свой выбор на экипаже Доронина с Бурноволоковым, командир справедливо полагал, что этот вылет для молодого, еще не обстрелянного штурмана, в котором он больше, чем при полете всей эскадрильей, где даже бомбят «по флагману» [23], мог проявить самостоятельности и находчивости, как раз и явится для него своеобразным испытанием, без которого не может быть настоящего воздушного бойца. Так на это посмотрели и остальные летчики эскадрильи, так это расценил и технический состав, и, когда самолет Доронина, басовито гудя, с набором высоты ушел в чужое осеннее небо, каждый на аэродроме, мысленно пожелав ему «ни пуха ни пера», начал преспокойно заниматься своим делом и по привычке, а вовсе не из-за опасения иль страха, изредка поглядывать в сторону курившихся сопок и прислушиваться вполуха — не возвращается ли экипаж обратно. Но когда связь с самолетом, уже благополучно, как все знали из поступавших с его борта радиограмм, выполнившим задание и повернувшим домой, вдруг оборвалась и вот уже целых тридцать минут было неизвестно, что с ним, в души людей закралось беспокойство, и как-то само собой обычная беготня на аэродроме враз прекратилась, громкие голоса смолкли и наступила та настороженно-звонкая, почти ощутимая физически, тишина, при которой не только случайно оброненный молоток на металлическую обшивку крыла или капот мотора, но и скрип гаечного ключа в неумелых руках моториста мог легко вызвать раздражение, послужить причиной нервной вспышки и даже ссоры.
Вот и командир эскадрильи, опасаясь, что с экипажем Доронина не совсем ладно, он, верно, попал в беду, вышагивал сейчас угрюмо по землянке, начиная все более неприязненно взглядывать на бритоголового сержанта, излишне подчиненно, прямо-таки коромыслом, гнувшегося над молчавшим, как рыба, телефонным аппаратом. Командира раздражала и его нелепая манера виновато сутулить плечи и без устали упражнять легкие — дуть в трубку, когда он обращался к нему с немым вопросом. Так прошло еще несколько минут, и вдруг сержант, дернувшись над телефоном и какое-то время подержав для верности трубку возле уха, с многозначительным видом протянул ее командиру, а пока тот, тесня морщины на лбу, с кем-то разговаривал, не сводил с него мучительно-любопытного взгляда, так как, к его удивлению, звонили не с радиостанции, пытавшейся установить связь с пропавшей «пешкой», а из штаба полка. Когда же телефонный разговор был окончен, командир, видно, поняв это необычное состояние сержанта, безжалостно удовлетворил его любопытство одним словом:
— Сбили.
Оказалось, что самолет Доронина с Бурноволоковым на обратном пути подожгли не то «мессера», не то зенитки, и он, с трудом перетянув на глазах у наших пехотинцев линию фронта, упал горящим в небольшое озерко невдалеке от аэродрома и что минуты за три до этого из него выбросился на парашюте один из летчиков, но, кто именно и достиг ли он благополучно земли, оставалось неясным. Неясной пока была также судьба остальных двух членов экипажа — то ли они выпрыгнули раньше, еще над территорией противника, то ли были убиты в воздухе и упали вместе с горящим самолетом.
До конца все прояснилось, лишь когда через час с небольшим к штабной землянке эскадрильи подкатила старенькая закамуфлированная «эмка» и из нее, едва она скрипнула тормозами, не по летам молодцевато выскочил улыбчивый пехотный капитан. Назвавшись адъютантом командира полка, в расположение которого упала горящая «пешка» и приземлился парашютист, он привычно-церемонным движением распахнул дверцу второй кабины — и все увидели там настороженно улыбающегося и в то же время вроде бы удивленного таким многолюдней (а любопытных действительно набралось много) Платона Доронина.
— Принимайте вашего сокола. В целости и сохранности, — точно бы представляя совершенно незнакомого человека, провозгласил между тем капитан, видимо, явно довольный выпавшей на его долю миссией. — Расписки не надо, — сострил он напоследок и, лихо откозыряв, тут же укатил обратно.
Доронин выглядел внешне спокойным, разве только чуточку усталым, и, если б не порванный в нескольких местах комбинезон да сучковатая березовая палка, на которую он оперся, когда вылезал из автомобиля, никто бы не подумал, что всего лишь как два часа тому назад он побывал в таком пекле, что и представить трудно. Даже голос у него не изменился, остался таким же басовито густым, с солидной хрипотцой, как всегда, и однополчане, сумевшие все это приметить с лету, немало тому подивились. Но когда Доронин стал рассказывать, как было дело, плечи его вдруг безвольно опустились, твердость в голосе постепенно пропала, а к концу рассказа он вовсе сдал, словно язык у него распух и он насилу им ворочал, и все поняли, что это в конце концов дало себя знать нервное напряжение.
Дело же, как рассказывал Доронин, произошло так.
Минут через пять после отхода от цели их атаковала пара «мессершмиттов», но на первых порах неудачно — одного из них тут же сбил Клещевников. Но второй поворачивать назад не подумал, оказался въедливым, и время от времени продолжал их атаковать. В одной из таких атак Клещевников был убит. «Пешку» же «мессер» поджег уже перед самой линией фронта, и, как только им удалось ее перетянуть, Доронин подал Бурноволокову команду прыгать. Правда, купола его парашюта он под собой не видел, хотя покинул самолет за ним вскоре, самое большее — через минуту, так как все еще пытался сбить пламя. Могло случиться, что Бурноволоков намеренно не спешил открывать парашют, чтобы не привлечь к себе внимание «мессершмитта», дернул за кольцо лишь у самой земли, а может, парашют у него не раскрылся вовсе.