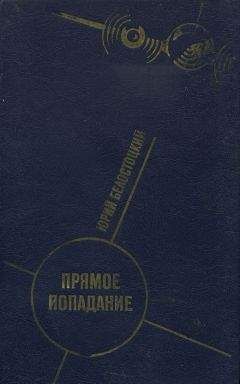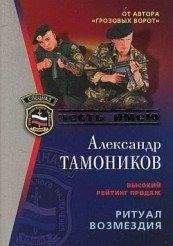Когда самолет делал над аэродромом «большую коробочку», — чтобы успеть до линии фронта набрать четыре тысячи пятьсот метров высоты, — Бурноволоков снова увидел ту стаю облаков, что катила от сопок, только уже сверху, под собой. Отсюда, сверху, они показались ему пышнее и наряднее, чем с земли, но плыли она теперь не кучно, а порознь, каждое само по себе, поломав строй, как плохо слетанная эскадрилья или рота новобранцев. Лишь два из них, мощных, полногрудых, с заломленными набекрень золотисто-белыми шапками, держась особняком, шли рядышком, почти под руку, не иначе как молодец с молодушкой, и величаво-торжественно, словно под венец. Солнце золотило на них горностаевые мантии, ветер услужливо перебирал белокурые кудри, и они, будто хмелея от этого, еще круче расправляли плечи, словно норовя занять все небо, и, позабыв обо всем на свете, все дальше и дальше уходили от своих тащившихся позади собратьев. Лишь один раз чело их омрачилось. Бурноволоков догадался: на облака темным крестом упала тень их самолета. Через мгновенье же они снова ослепительно сияли богатством своих нарядов.
А когда, сличив карту с местностью и сверив курс — высотомер уже показывал две тысячи метров, — Бурноволоков опять поглядел в их сторону, эти дружные облака друг от друга были уже далеко и казались теперь не пышными и нарядными, а, наоборот, сиротливо-жалкими, одинокими, словно за это время их изрядно потрепал ветер и похлестал дождь.
Бурноволоков проводил их погрустневшим взглядом и опять занялся своим делом.
Набрав безопасную высоту, Доронин перевел машину в горизонтальное положение, затяжелил винты и, надев на себя кислородную маску, отчего стал сам на себя не похож, посоветовал то же самое сделать и штурману.
— А то линия фронта скоро, — добавил он, вкладывая в эти слова особый смысл, и штурман в ответ понимающе кивнул головой.
По рассказам он знал, что Доронин, как и большинство летчиков, рот в боевом вылете предпочитал не раскрывать, больше обходился жестами — разговоры не только отвлекали, но и утомляли, — но на этот раз он явно делал исключение. И, верно, потому, что штурман в экипаже был новый, необстрелянный, а может, он просто выказывал ему особое расположение или даже чуточку заигрывал, помня об истории с Клещевниковым. Уже после первого разворота, когда в плексигласовом полу кабины показалась сплюснутая крыша землянки с падавшей на нее тенью от соседней ели, он ткнул туда пальцем и пояснил, благожелательно косясь на штурмана:
— Жилье наше. А дальше вон, через полянку, столовая. Узнаешь?
— Узнаю.
Потом он показал ему на озеро, удивительно похожее с высоты на рыбий плавник, спиной которому служил черный треугольник горелого леса.
— Летом я туда рыбачить ходил. Видишь?
— Вижу, — опять коротко ответил штурман, тоже не очень-то любивший разговаривать в воздухе. Но предупредительность летчика, его ненавязчивое опекунство, в котором он, в общем-то, не нуждался, оценил по достоинству: когда вскоре Доронину, не спускавшему глаз с приборов и горизонта, потребовался планшет с картой — он начал слепо шарить справа от себя затянутой в перчатку рукой, — Бурноволоков быстренько отыскал его и положил ему на колени.
А вот с Клещевниковым Доронин пока не обмолвился ни словом. Да в этом, верно, и не было необходимости. Тот знал свое дело туго, летал чуть ли не с первого дня войны и уже имел на своем счету два сбитых «мессершмитта». Так что если б у него что случилось или потребовалась помощь, он давно бы дал знать.
Правда, на земле, перед вылетом, разговор у них состоялся. И довольно острый. Хотя рана у Клещевникова была не опасной, больше смахивала на царапину, Доронин, как и командир эскадрильи, все же побаивался, что в боевом вылете она может стать помехой. Он так прямо об этом ему и заявил. Заподозрив, что это лишь предлог, чтобы свести с ним счеты, Клещевников, трезвым на рожон не лезший, на этот раз не стерпел. Нервно притушив окурок пальцами и вытерев их о комбинезон, он поднял на Доронина изменившийся взгляд своих серых, всегда чуточку печальных глаз и, намеренно игнорируя присутствие на КП командира эскадрильи, за поддержкой к которому мог бы обратиться, с дрожью в голосе произнес:
— Значит, отстраняете меня от полетов, товарищ лейтенант, списываете, как говорится, за борт? Не нужен, выходит, стал сержант Клещевников? Другого нашли? — И, не сразу отыскав глазами выход, уже прицелился было демонстративно хлопнуть дверью, как Доронин, загородив ему всем туловищем дорогу, вдруг рявкнул на всю землянку:
— Дисциплинку забыли? Стоять как положено, когда с вами старший по званию разговаривает! — И, тут же помягчев, скинув с себя служебную строгость, почти насильно, загнал Клещевникова подальше в угол и, искоса поглядывая на комэска, невозмутимо, даже, казалось, с безразличием следившего за этой сценой, горячо зашептал в самые уши: — Ты пойми, Степа, не на блины к теще идем, а на боевое задание. У тебя ж рука. Ну, с березинским ты, скажем, сладишь. Дело не хитрое. А со шкасом? [22] Тебе ж его с борта на борт не перебросить. К тому же штурман у нас новый, не воевал. Срежут ведь за милую душу, ежели что…
Тон, которым Доронин все это высказал, был искренним, не поверить ему было трудно, и Клещевников, мгновенно отойдя сердцем, пристыженно опустил глаза.
— Ладно еще зенитки, — продолжал тем же тоном Доронин, но уже громче, с явным расчетом на то, чтоб услышал и командир эскадрильи, — тут как-нибудь вывернемся. Не впервой. Со шкасом возиться не придется. А вот «мессера» начнут клевать, тогда только поспевай поворачиваться. А у тебя рана откроется. Как тут? Так что, Степа, лучше повременить.
— А кого вместо меня возьмете? — оторвав наконец глаза от пола, все еще с дрожью в голосе спросил Клещевников.
— Кого командир даст, — уклончиво развел плечами Доронин и, повернувшись к Курганскому, добавил искательно: — Тот же Хорьков может полететь…
Хорьков, или, как его чаще называли на аэродроме, Хорь, до этого летал в экипаже лейтенанта Кушнарева, и злые языки на аэродроме поговаривали, что это он проморгал «мессеров», навалившихся на самолет с хвоста уже над нашей территорией, что когда Хорь схватился за пулемет, было уже поздно — самолет горел. Хорю одному из экипажа каким-то чудом удалось выброситься на парашюте, и с тех пор он уже больше месяца ходил в «безлошадных». Клещевников терпеть не мог этого настырного стрелка-радиста, не очень-то верил в его храбрость и, услышав сейчас его имя, решительно тряхнул своей большой, не по плечам, головой и негромко, но с внутренним напряжением произнес:
— Лететь надо мне, а Хорь пусть лучше посидит в своей норе. Только так. Рука же у меня, если на то пошло, здоровая. Вчера в санчасти даже повязку сняли. Смотрите, если не верите, — и, засучив рукав комбинезона, обнажил левую руку почти до плеча.
Рука и точно была как рука, только чуть повыше локтя розовел небольшой шрам. Оглядев этот шрам и справа и слева, даже пощупав его легонько, Доронин затем сконфуженно обернулся к командиру эскадрильи, как бы признаваясь, что зря он здесь закатил такую речь, дело-то, оказывается, выеденного яйца не стоит, и командир, угадав эти его мысли, устало улыбнулся и негромко проговорил:
— Да, правильно, лейтенант, пусть летит.
И вот сейчас, время от времени оборачиваясь назад, Бурноволоков видел за ветровым козырьком «Ф-3» плотно затянутую в шлемофон крупную голову Клещевникова, его сутулившиеся, будто там, в открытой кабине, ему было неуютно, узкие плечи с белыми полосами парашютных лямок, и на душе его становилось покойнее.
К линии фронта самолет подходил со стороны пустынного, вклинившегося далеко в озеро, полуострова. Бурноволоков знал, что здесь не было ни постов ВНОС, ни зениток, только несколько затерявшихся и лесу хуторов, и все же когда он впервые увидел впереди по курсу этот неуютный, окутанный дымкой массив вражеской территории, его дремучие леса, топкие, без единого деревца болота, пепельно-серый, сбегающий к воде песчаный мыс, который на его полетной карте имел собственное наименование — Лисий Нос, что то похожее на озноб пробежало у него под рубашкой и заставило умерить бой сердца.
Так вот она, эта таинственная, много раз рисовавшаяся в его воображении линия, что делила землю и небо на два разных мира, вот она — и Бурноволоков, привстав с сиденья, устремил на эту затаившуюся, угрюмую землю по-мальчишечьи тревожно-любопытный взор.
Далеко внизу, как раз над мысом, он разглядел сперва кучку робко жавшихся друг к другу серых облаков, пятнавших своими тенями единственный здесь светлый фон, а там, где кончались болота, — ряд каких-то строений и нитки белого, стлавшегося в сторону болот, дыма.
«Хутор, верно, жилье, — заполошно, с ознобным восторгом подумал он. — А может, белофинны, шюцкоровцы?»- и, сведя брови к переносице, попробовал представить себе их, этих шюцкоровцев, — в касках, в тяжелых кованых сапогах, со свастикой — и не мог: война еще не вошла в его кровь и плоть. А больше взору зацепиться здесь было не за что, разве вон еще за тот безлюдный, изрытый снарядами, откос, на котором темнела одинокая, когда-то, видать, выброшенная крутой волной, теперь никому ненужная, баржа. А ту линию фронта, не условную, а настоящую, с ее обычными траншеями, ходами сообщения, с колючей проволокой и минными полями, Бурноволоков отсюда видеть вообще не мог; она осталась в стороне, находилась сейчас от них где-то справа по борту, на юго-востоке, так как, чтобы обеспечить внезапность появления в тылу противника, они долго шли над огромным, как море, густо-серым, зарябленным ветром, озером, западного берега которого не было видно даже с пяти тысяч метров.