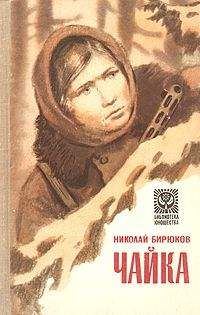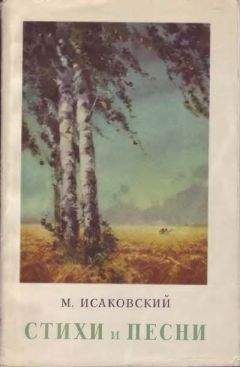— Давно это было?
— Да уж и не знаю, думается — век лежим.
«Как умно держится», — с невольным восхищением подумала Катя.
Затрещали ветки. Из темноты леса мчался один из четырех коней, угнанных партизанами, — белый, с черными «яблоками» на боках. Он пронесся мимо Кати так близко, что ее обдало ветром, и вылетел на большак.
— Вот один! — радостно закричал Михеич.
Он подскочил к коню и схватил за уздечку. Потрепав гриву, провел ладонью вдоль всей спины, и конь затих, опустив морду ему на плечо.
Ридлер сказал что-то отрывистое, и солдат, стоявший рядом с Михеичем, вырвал у старика уздечку и вспрыгнул на коня. Конь заржал и понесся по большаку с явным намерением сбросить с себя непрошенного седока.
— Ваше благородие! — вскрикнул Михеич. — Вы обещали…
— Я обещал, когда ты продукты привезешь.
— Привезу. Провалиться мне на этом месте, ежели не соберу еще раз честь честью. — Михеич перекрестился.
— Тогда и коня получишь, — насмешливо сказал Ридлер. — А за битую морду… — Он вынул из кармана пачку бумажных денег, отделил две бумажки и швырнул их к ногам Михеича.
Благодаря и кланяясь, Михеич поднял деньги.
Ридлер покосился на лес. «Если прибежал конь, то за ним могут появиться и партизаны, а встретиться с ними здесь…»
Он круто повернулся к своему танку; солдаты услужливо приподняли крышку. Михеич, как бы застыв, смотрел вслед лязгающим машинам, пока они не скрылись, потом скомкал в кулаке немецкие марки, швырнул их и вымыл снегом руки.
— Ведьмюкин выкладок!.. Пошли! — сказал он односельчанам.
Большак опустел. Немного обождав, Тимофей вылез из ямы.
— С ними… Только возле них мне теперь держаться. Господи, не осуди! — прошептал он.
Нашарив на снегу брошенные марки, Тимофей осветил их спичкой. Сквозь зубы процедил:
— Не жирно платят за битую морду.
До рассвета было еще далеко. Тимофей сунул в карман деньги и повернул обратно.
Снегопад приостановился лишь под утро. Снег мягко и пухло укрыл в лесу землю. Не стало ни мелких ямок, ни тропинок, и Зимин, чтобы не заплутаться, ориентировался на запомнившиеся ему деревья и полянки.
Тяжело было у него на душе: действительность оказалась куда мрачнее, чем он ожидал.
Немцы неплохо пользовались тем, что в отряде не стало радиоприемника. С утра до вечера передают они ложные сообщения о падении Москвы, напоминают об Одессе, сравнивают бои за оба эти города. И чтобы легче ввести в заблуждение, передают об Одессе так, как это сообщалось в свое время в советской печати. Говоря о стремительности и непобедимости немецких армий, они напоминают, как быстро, в одну ночь, была форсирована Волга в Певском районе. Слушают люди и думают: про Москву они ничего не знают, что там, а насчет Одессы — правда. Точно так же и советские газеты писали… И насчет форсирования Волги — на их глазах это было, — правда, в одну ночь и почти без боя…
И в смятенные души истерзанных людей просачивается гнусный яд немецкой лжи. Люди с отчаянием оглядываются вокруг; кто бы опроверг? Чуть свет выбегают они на улицу, смотрят на ворота, на заборы — нет ли советских сводок, которые прежде почти каждую ночь расклеивали партизаны. Нет сводок, но вместо них стали появляться «беженки» из Москвы. Заходят они по ночам в дома, якобы в поисках пристанища, и с рыданьями рассказывают, как разрушают немцы Москву-матушку.
Зимин заметил, что кое у кого и из партизан стала появляться повышенная нервозность.
«Неизвестность — и отсюда все остальное, — думал он, шагая по скрипучему снегу. — Рассеять ее, вырвать народ из темноты. Но как это сделать? Не голые слова, а факты, факты нужны! Нужно, чтобы все эти истерзанные люди каждый день узнавали новые подробности о том, как растут и крепнут силы Красной Армии, как их братья и сестры за линией фронта дни и ночи проводят в самоотверженном труде, приближая час освобождения, и что час этот наступит… Да, это! Именно это!.. А для этого нужно, чтобы была связь с Москвой и через нее со всем народом».
Впереди раздался окрик.
— Свой! — вздрогнув, отозвался Зимин, удивленный тем, что так быстро пришел к поляне. Перед ним вырос Карп Савельевич — погорелец из Залесского. Поздоровались.
— Чайка вернулась?
— Так точно, товарищ командир, с час назад. Миновав еще двух патрульных, Зимин услышал стук топоров, визг пил и голоса. За деревьями белел сруб. Возле него суетились партизаны и партизанки — строили баню. Некоторые были в новых полушубках.
«Карп Савельевич ничего не сказал — значит с Михеичем все благополучно», — подумал Зимин, остановившись и с удовольствием прислушиваясь к строительному шуму. В морозном воздухе стук топоров разносился с каким-то задором. Лихо взвизгивали пилы; голоса звучали весело. От всей стройки веяло радостным неправдоподобием — точно и не лютовала вокруг фашистская смерть.
«После войны подамся в невропатологи и всем своим пациентам буду прописывать: кому топор, кому пилу. Великолепное средство для укрепления нервов!.. — пошутил он, в душе очень довольный этой своей мыслью — занимать партизан трудом в свободное от боевых дел время. — Хорошо, ребятки, хорошо. Бодрость духа — это полпобеды… Понадобится — на каждого по баньке построим — не повредит. А неизвестность! Гмм… конечно, так дальше продолжаться не может. Нужно достать приемник, хотя бы и пришлось для этого сделать налет на певский радиоузел».
— А ну, дружно… Еще раз! — донесся со стройки го-лог Николая Васильева.
Высокая сосна закачалась и с треском рухнула, взметнув вихрь снежинок.
Голоса Кати не было слышно. Зимин взглянул на светлеющее небо. На востоке оно было серое, с бледной голубизной и чуть розоватое над верхушками деревьев, а ближе к западу — плыли облачка, похожие на грязные пласты ваты.
«Часов семь, наверное», — определил он и пошел к поляне.
В воздухе кружились редкие снежинки. Они лениво спускались на качающиеся ветки, на заснеженную землю и на головы Васьки и Ванюши Кузнецова, лепивших рядом с землянкой снежную бабу. Мальчишки раскраснелись. У Васьки за поясом торчал топор: вероятно, только что прибежал со стройки или собрался туда. Он увлеченно отделывал щепкой на круглом комке снега «скулы» и приговаривал:
— Ты, Ваня, обожди, встань в сторону. Лицо сделать — это тебе не фрица шлепнуть. Фриц как ни сдохнет, это все равно, лишь бы сдох, а лицо изобразить — серьезное дело. Тут надо, чтобы все шарики в голове работали, как пулемет… Вот смотри!
— Катя в землянке?
Васька быстро обернулся и спрятал руки, смущенный тем, что Зимин застал его за явно ребяческим делом.
— Там, товарищ командир. А мы вот, — он кивнул на улыбающегося Ванюшку, — игрушки все в голове, чего с него взять! Увидел снег, товарищ командир отряда, обрадовался, захотелось бабу смастерить, а руки, как крюки, — вот и возись с ним, показывай!
Зимин, засмеявшись, толкнул дверь.
В земляной нише чадила коптилка, бросая желтоватый свет на лица спящих партизан. Их было немного: часть из тех, что ходили с Катей встречать Михеича, и раненые. Катя лежала на верхней наре, устремив широко открытые глаза на печку, которая была сложена только вчера и, как следует еще не просохнув, дымила.
Подтянувшись на руках, Зимин сел на край нар, возле катиных ног, и долго смотрел на ее потемневшее лицо.
— Не нравишься ты мне за последние дни, Чайка.
— Я сама себе не нравлюсь, Зимин, — не отрывая взгляда от печки, устало отозвалась Катя. — Вот хочется заснуть — и не могу. Только глаза прикроются — в мыслях Михеич… В ушах голос его стоит: «В Волгу люди бросаются». И не могу заснуть.
Зимин ласково провел ладонью по ее руке.
— Слышишь, как наши строители расшумелись? Пойдем поупражняемся, повалим парочку сосен.
— Не хочется…
— Заодно и о Михеиче расскажешь и о делах поговорим. Проверено, что обман с «налетом» не раскрыт?
Катя кивнула.
— Хорошо. Пойдем, расскажешь все поподробнее. Он уперся ладонями о нары, намереваясь спрыгнуть.
— Я здесь расскажу, — остановила его Катя. — Ну, о «налете», что ж… Здесь все, к счастью, благополучно обошлось — немцы поверили… Я о другом хочу… С Михеичем разговаривала. Понимаешь, он правду сказал: теперь и они и мы в одной темноте. Что там сейчас, под Москвой? Тревожно на душе… Мы вот задерживаем восстановление моста, время придет — взорвем его, через свой район поезда не пропустим. А другие районы пропускают. Я тебе говорила: на линии Великие Луки — Ржев уже восстановлено движение. Что, если не удержится Москва, ведь тогда… Я хочу просить тебя… — Она села, умоляюще вскинув на него глаза. — Отпусти меня!
— Отпусти-ить?
— Да. Я перейду линию фронта, разузнаю все там и пойду по селам, расскажу им все, что сама видела и слышала.