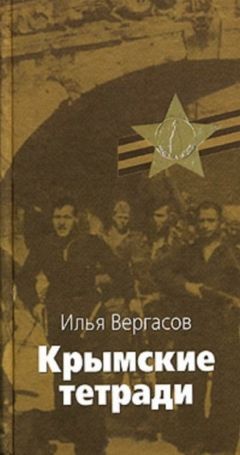Ночь холодная, ребята наши в шинелишках и где-то сейчас жмутся друг к другу, может, слушают байки старого лесника, который неистощим в своем балагурстве.
Перед рассветом от моего оптимизма мало что остается. С «Триножки» доклады за докладами. Зашевелился враг по всей долине, зашныряли машины, по деревням тревога, слышны команды.
Телефон меня уже не устраивает, я спешу на «Триножку».
Крутой подъем дается легко — у меня такое нервное напряжение, что не замечаю ни усталости, ни того, что поранил ноги на острых камнях…
Вид с «Триножки» потрясал; просматривался даже краешек Севастополя.
В боевой бинокль увидел море и кораблик на нем. Вокруг него поднималась вода. Стреляют по кораблю? Так и есть! Какая близость между нами и Севастополем!
В другой раз я бы неотрывно смотрел на запад, но сейчас важнее было разобраться в том, что происходит под моими ногами.
Прошелся взглядом по дороге от Коккоз до самых сторожевых скал где-то под Бахчисараем. Много патрульных машин, проскакивают мотоциклы, Противник встревожен и нервничает.
На пригорках мелькают люди в черных шинелях. Это контрольный прочес!
Зинченко надо искать на левом фланге, в узкой горловине, сжатой обрубленными скалами.
Там пока тихо.
Ближе всех к «Триножке» лежало село Узунджа — небольшое, дворов на сто, но с завзятыми полицаями. На пятачке между нами и Узунджей и началась бешеная перестрелка. Мы увидели цепь карателей, охватывающих мелколесье с флангов. Неужели Зинченко в ловушке?
Стрельба рассыпалась на несколько очагов, потом оборвалась.
Но я чувствовал: что-то сейчас произойдет!
Внимательно обшариваю взглядом от куста к кусту, от тропы к тропе. Вдруг вижу: бежит человек, размахивая малахайкой.
— Это же дед, наш дед! — кричит наблюдатель. Его голос покрывается трескотней автоматов под самой «Триножкой».
Кравченко исчез, но стрельба такая стала, что пришлось оглядываться: не по нас ли бьют?
Трещит телефон. Голос Калашникова:
— Что же случилось, а? Объявляю тревогу!
Как можно спокойнее:
— Разрешаю, но без шума. Не отходи от телефона.
Минут через десять я увидел всю зинченковскую группу.
Партизаны залегли за каменным выступом, протянувшимся параллельно основанию нашей «Триножки». Позиция у них отличная, если не считать тыла. Он доступен со стороны Маркура.
— С Маркура глаз не спускать! — приказываю наблюдателю.
Карателей до роты, они приближаются к Зинченко с трех направлений. Вижу, как Митрофан Никитович расставляет свою семерку. У каждого хорошая позиция, и — что очень важно — наши над немцами, и тропы к ним крутоваты. Но тыл?
Звоню Калашникову, объясняю, в каком положении находится Зинченко, приказываю группу Черникова аллюром направить на перекрытие маркуровской тропы.
Немцы не спешат сближаться, они явно чего-то ждут.
— Еще выходят из Маркура! — кричит наблюдатель.
Около сорока солдат с пулеметами на вьюках быстро движутся по тропе они хорошо нам видны.
Бросаюсь к телефону:
— Где Черников?
— На пути!
Через три-четыре минуты увидел черниковскую группу. Ребята бежали на Маркуровский перевал.
Кто скорее достигнет его?
У Зинченко стали постреливать, немцы начали перебежку. Пограничники заметили ее. Вот кувырнулся один солдат и не поднялся. Еще один!
Зинченко повернулся к нам, но мы себя не обнаруживали, хотя было ясно, что пограничник просит нашего внимания.
Он трижды показал рукой на Маркур; мы понимали его отлично и ждали только одного — чтобы Черников успел!
И он успел, минуты за три до немцев оседлал перевал и сделал это не без хитринки, по-пограничному. Сам перекресток оставался свободным; чтобы скрыть себя, Черников скосил его и вышел на тропу, что прямо вела в тыл Зинченко. Здесь он и засел над тропой.
Немцы добежали до перевала, оглянулись и свободнее пошли по тропе, выпустив ракету — белую!
На Зинченко пошли с трех сторон; пограничники отстреливались с выдержкой, но Зинченко все время поглядывал на «Трииожку». Мы отлично знали, что он сейчас переживает. Ничего, ничего, Митрофан Никитович, еще минута — и тебе все будет ясно!
Маркуровская группа карателей вытянулась на тропе. Черников ударил по ней длинной пулеметной очередью из конца в конец. Пошли в ход гранаты!
Зинченко, услыхав черниковский пулемет, атаковал ближнюю к себе цепь.
Первым я увидел деда Кравченко: на шее два немецких автомата, за плечами солдатская кожаная сумка, под мышкой фляга.
Зинченковский рейд, не ахти какой по результатам — разбита машина, подожжен пятитонный заправщик, взорван мост на проселочной дороге, — имел большой резонанс. Три месяца немецкие тылы жили в долине и страха не знали. Они окончательно решили: партизаны не посмеют заявиться в район, напичканный полицаями и охранными подразделениями. Ведь штаб майора Генберга располагался в долине — в Коккозах — и гарантировал безопасность.
В долину прибыл главный каратель Крыма генерал войск СС Цап. Он объездил села — все без исключения, — лично говорил со старостами, начальниками полиции, представителями «Священного мусульманского комитета». До нас дошли слухи: генерал предупредил местных националистов, что в случае новых действий партизан в долине за каждого убитого солдата будут расстреляны десять жителей, независимо от того, к какой они нации принадлежат.
Приутихла долина, ощетинилась штыками; даже козьи тропы взяты под усиленную охрану. Еще одна мера: немцы убрали отсюда военные госпитали. Мало того, сюда стали стягиваться каратели.
Что ж, в какой-то степени мы цели своей достигли. Пока, до поры до времени, оставили долину в покое; что касается дальнейшего, то у нас возникли кое-какие планы.
28
Боевая жизнь района налаживается, хотя и со скрипом. Калашниковская мука плюс трофейная конина свое дело делают. А тут враг будто позабыл о нас и носа не сунет в наш район.
Но почему он себя так ведет?
Я постоянно думаю о связи с Севастополем и исподволь готовлюсь к ней, но меня смущает одно: почему сам город молчит? Не может того быть, чтобы там не знали нашего положения. Разве они будут бездействовать?
И они, те, кто непосредственно руководил обороной, не бездействовали.
Вот что происходило в Севастополе.
Февраль — предвесенний месяц. В это время на юге порой бывают ласковые дни, схожие с майскими.
Утро. На Корабельной стороне рвутся редкие снаряды. Прилетели пикировщики и пытались сбросить бомбы на линкор, серой громадой застывший в Южной бухте. Зенитчики отогнали их. Сбросив бомбы в воду, самолеты нырнули в пушистый слой облаков, которые плыли в синем небе и таяли где-то над лесами.
Улицы полны народу. Особенно шумно на Графской пристани. Здесь узнаются новости, встречаются друзья, земляки. Здесь же вывешивается сводка «На подступах к Севастополю». С военной лаконичностью она сообщает о положении на фронте за последний день.
Расталкивая локтями толпу, к карте военных действий протискивается пожилая женщина, повязанная белой шалью.
— Что там, милые, на фронте-то?
— Не шуми, тетка, а слушай: «Вчера на фронте велась редкая артиллерийская и ружейно-пулеметная перестрелка. Наши снайперы уничтожили двадцать восемь фашистов».
— Ну и слава богу! — перекрестилась женщина, вытащила из-под шали тарелку с жареной рыбой и заголосила: — Ставридки! Кому свеженькой ставридки?!
— Мне. Отваливай с десяточек! — остановил ее старший лейтенант с раскосыми глазами и забинтованной шеей.
— Бери, миленький, бери. На вот, парочку поджаренных… с хрустом…
Старший лейтенант жадно набросился на свежую рыбу. После госпитальной пищи из сухарей и консервов рыба показалась ему очень вкусной.
Это был Маркин, житель Севастополя. Он более месяца пролежал в госпитале в Инкермане, истосковался по небу, свободе, улицам родного города. Он шагал по городу, останавливался у заборов, смотрел…
— Идешь и как солнце сияешь! — знакомый голос остановил его.
— Товарищ Якунин! — бросился Маркин к бывшему секретарю Корабельного райкома партии. — Вы же партизанили?!
— Было дело… — Якунин с подчеркнутой заинтересованностью посмотрел на Маркина. — Ты, кажется, просился в партизанский отряд!
— Еще как!
— В лес дорога и сейчас не заказана.
— А наши там есть? — не без волнения спросил Маркин.
— Еще бы! Вчера пленного допрашивали. Рассказывает, как партизаны вздыбили Коккозскую долину. Нам нужен проводник, а ты лес знаешь. Как?
Маркин загорелся:
— А что?
…Бухта все больше обволакивается темнотой, всплескивают прибрежные волны, у маленького причала слегка подрагивает катер с заведенным мотором.
По берегу ходит Маркин.
Якунин, радист — молодой паренек в ватнике с ящиком за плечами, а за ним секретарь обкома Меньшиков попадают под луч электрического фонарика, направленного на них Маркиным.