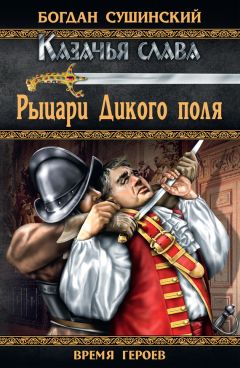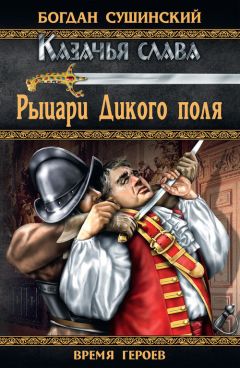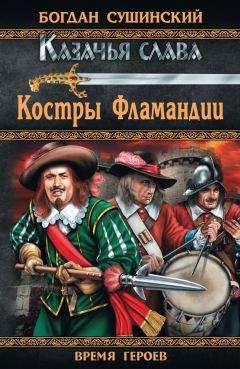Этот казарлюга был неплохо обучен грамоте и даже успел полтора года проучиться в Киевской братской школе, откуда, как он сам объяснял, был изгнан за свой необузданный нрав и непомерно тяжелые кулаки. Теперь Хмельницкий мог засвидетельствовать: тем и другим Бог его не обидел. И если полковник решился взять его в адъютанты и телохранители, то лишь потому, что время от времени находил в нем знающего собеседника, с которым можно было поговорить о книгах, истории Руси-Украины, о вновь разгорающейся полемике между православными и католическими церквами.
– Не знаю, отстаивает ли, – усомнился Хмельницкий. – Но будем надеяться, что хотя бы не заинтересован в нашей гибели. Иногда это тоже оценивается на вес головы.
Полковника и его сына разместили в комнатке на первом этаже. Всех остальных – на втором. Окна везде были зарешечены, а сами комнаты больше напоминали тюремные камеры, нежели обычные номера заезжего двора. По совету Савура полковник сразу же поднялся к ним. Решили, что ночевать будут вместе, забаррикадировавшись. И если уж так случится, то вместе примут бой.
– Нечего ждать нападения. Как только стемнеет, нужно бежать, – не согласился с общим решением Седлаш. – Савур, ну-ка возьмись за эти прутья. Да ты с первого удара способен вышибить их, изогнешь голыми руками. А, вырвавшись отсюда, мы окажемся на стене. Лошадей раздобудем.
– Убегать нужно будет в сторону Днепра. А мне нужен Бахчисарай, – возразил Хмельницкий. – Поэтому рисковать станем до конца, полагаясь на волю божью и собственную судьбу.
Савур в полемику не встревал. Ухватившись за решетки, он рванул их так, что чуть было не выломал вместе с большим куском глинобитной стены. Полковник едва успел сдержать его.
Савур и Седлаш были в чем-то похожи между собой. Но если Седлаш мгновенно вспыхивал, горячился, сыпал словесами, то Савур закипал молча, холодной лютью, и взрывался яростной ненавистью. Без слов, без угроз, но и без пощады.
Поначалу, когда вместе с Орданем и другими крестьянами, Савур только-только присоединился к нему, Хмельницкий воспринял новобранца как обычного деревенского парня, убежавшего от своего помещика. Но уже в первые дни своего появления на Сечи Савур, сын реестрового хорунжего, начал удивлять казаков не только своей ученостью, но и закалкой. В лютый мороз он ходил оголенным по пояс и даже купался в полынье. Целыми часами мог просиживать на холодном днепровском ветру почти раздетым, да еще навесив на шею странное ожерелье из связанных веревками увесистых камней.
Весило такое «ожерелье» не меньше двух пудов, однако Савура, этого черноволосого сивра [41] , родом откуда-то из Черниговщины, это не смущало. Когда он не был занят по службе, мог полдня проходить с этим ожерельем, совершая каждый час по двадцать низких поклонов, чтобы накачать свою и без того буйволиную шею.
Приближая его к себе, Хмельницкий загорелся идеей создать особую сотню, в которой были бы собраны казаки и повстанцы какого-то необычного воинского таланта, физической силы и храбрости. Эта сотня могла бы стать его «императорской гвардией», среди казаков которой он со временем подыскивал бы людей на должности полковников, сотников, атаманов отдельных повстанческих отрядов, способных действовать самостоятельно, признавая при этом верховенство гетмана Украины.
Седлаш спустился вниз, в опустевший ресторанчик, и с трудом отыскал там слугу, которого заставил дать ему немного вареного мяса и кувшин фруктового напитка. Как оказалось, хозяин этого караван-сарая куда-то исчез, и вообще атмосфера в нем царила как в монастырском госпитале после чумы. Зато охрана у ворот увеличена до шести человек.
– Что будем делать, полковник? – спросил Седлаш, ставя на стол огромную сковороду с горой нарезанной конины.
– То, что должны делать всякие постояльцы заезжего двора: есть мясо и похваливать хозяина.
– Но к темноте они подтянут сюда еще сотню своих аскеров.
– А мы еще усерднее будем есть мясо и расхваливать гостеприимного хозяина, – невозмутимо подтвердил свои гурманские пристрастия Хмельницкий.
Поздним вечером, выслушав покаянную молитву, доносившуюся с ближайшего минарета, они спустились навестить отхожие места и затем с полчаса прогуливались по темному опустевшему внутреннему двору, испытывая нервы и намерения охранников. Особой враждебности аскеры не проявляли, но, когда казаки приближались к воротам, вдруг начинали испытывать крепость конских жил на своих луках. Так, на всякий случай.
«А что, довольно дипломатично, – вынужден был признать Хмельницкий. – Ждать недолго, к утру все прояснится».
Поднявшись к себе наверх, они вновь выпили по рюмке-другой водки, за тех, кто не побоялся сменить тепло домашней постели с женой под боком на степной уют казачьей жизни, и затянули старинную песню о храбром атамане, оказавшемся в турецкой неволе, по-особому понятную им в эти минуты, созвучную настрою душ.
Король только что вернулся из Поморья. Победа над экспедиционным корпусом шведов под прибрежной деревушкой Черные Кресты или Замки? словно бы возродила в нем воинственный дух предков. Владиславу IV казалось, что после запрета сейма, наложенного на создание армии, которая способна была бы выступить против турков, он зря похоронил в себе полководца. Еще пара таких сражений со шведами или московитами – и он сумеет поднять дух польского войска, рыцарский дух шляхты. Польша наконец-то вырвется из этого «сна забвения» и воспрянет духом. А главное, поймет, что во главе ее стоит один из самых воинственных, самых удачливых в польской истории королей, вполне достойных славы Владислава Локетка [42] и Стефана Батория.
– Так вы что, действительно решили отправиться в Украину, господин Вуйцеховский? – король произнес это таким тоном, словно Коронный Карлик долго добивался права на эту поездку, но он, Владислав IV, постоянно сомневался: стоит ли рисковать одним из своих самых преданных придворных?
– Вас это удивляет, Ваше Величество? – с загадочной ухмылкой спросил Коронный Карлик.
– Мне донесли, что там назревает казачий бунт.
– Иногда мне кажется, что на украинских землях он никогда и не затихал, – вежливо склонил голову тайный советник.
Король восседал на высоком тронном кресле в небольшом зале своего дворца, который из-за цвета плитки, украшавшей огромный камин, был назван «малиновым». И Коронный Карлик стоял перед ним, как могло показаться, маленьким, беспомощным и жалким. Вот только восприятие это было обманчивым. С ног до головы облаченный во все черное, с черной шляпой в руке и с копной смоляных волос, вполне заменявших эту шляпу, Вуйцеховский держался, как и положено «черному человеку», – не ощущая себя ни мизерным, ни униженным. Однако исключительно из жалости к королю до поры до времени выказывал почти библейское смирение. Ибо его смирение было тем высшим проявлением презрения к монарху, которым тот время от времени позволял овеивать свое угасающее самолюбие.
– Вы правы: он действительно никогда не затихал, – неожиданно оживился король. – Это на какое-то время затихал мой гнев. И чернь русинская нагло пользовалась этим. Она, как трясина, которая до тех пор кажется умиротворенной, пока не попытаешься пройти по ней.
Коронный Карлик приподнял голову, чтобы не только с малости роста своего, но и с малости положения с любопытством взглянуть на победителя шведского «рыбного обоза» – как он прозвал про себя этот корпус норманнов-самоубийц.
«Он-то хоть знает об истинной цели моей миссии на Украине? – спросил себя Вуйцеховский. – О карете, тайнике для злотых, эскадроне сопровождения? А если знает, то какого дьявола лжет мне, как цыган-конокрад на исповеди?!»
– Но я не в состоянии поспевать за всеми событиями. У моих ног – огромная империя. Только удалось изгнать из Поморья шведские войска, как узнаю, что назревают сражения на берегах Днепра.
– …Где уже бунтует не только казацкая чернь, но и местная польская аристократия, – напомнил Коронный Карлик. Ему приходилось обсуждать с королем и не такие тайны двора. Поэтому Вуйцеховский привык вести диалог на равных, добиваясь этого права в каждой из встреч с Его Величеством не настойчиво, а как бы исподволь, но с неизменным успехом. – Если бы польские воеводы и прочая шляхта чаще заглядывали в законы королевства, этот край давно представал бы перед Вашим Величеством умиротворенным краем верных короне воинов и преданных сохе землепашцев.
Вуйцеховский заметил, что король растерянно замялся, не зная, как ему реагировать на подобное трактование событий в Украине. Понадобилась почти минута, прежде чем Владислав понял, что тайный советник попросту пришел ему на помощь.
– Отныне вы наделяетесь особыми полномочиями, господин Вуйцеховский, – посуровело лицо правителя. – В канцелярии Оссолинского вам, королевскому комиссару, передадут несколько жалоб, пришедших на имя короля и канцлера не только от казачьих офицеров и городских общин, но и от обедневшей шляхты.