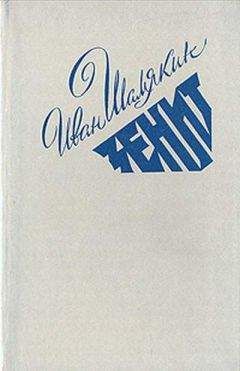Захотелось крикнуть: «Не нужно, Любовь Сергеевна! Не нужно! Не унижайте себя!»
Но стало очень стыдно. Когда-то мать на сенокосе захватила меня подглядывавшим, как купаются в Днепре взрослые девушки, и огрела по спине лозиной. Но боль была ничто по сравнению со стыдом, много дней я не мог глянуть на мать и дрожал, что она расскажет отцу, соседкам.
Так же я боялся взглянуть на Пахрицину. Стыдно. За нее. За себя. Странно — почему за себя? А она не придумала ничего умнее, как начать объяснение, откуда знает тайну Лики:
— У нас с ней серьезная стычка. Она отказалась от медицинского осмотра…
Понял, какой осмотр имелся в виду, и новая волна жара шуганула в меня так, что, казалось, загорелись волосы, затрещало в голове.
— «Если мне нужно будет, я сама приду к вам». Подумаешь, орлеанская девственница! Сказала бы, кто она, но уважаю вас, Павел.
«О боже! Что она говорит! Как ей не стыдно!» Я прижал свой фурункул на боку к столу: пусть заболит так, чтобы я мог закричать, завыть, свалиться на пол.
— Я написала докладную командиру…
— И что Кузаев? — шепотом спросил я.
— Размазня ваш Кузаев. «Это ваше дело, а не мое… Не издавать же мне приказ». Какой целомудренный! Не издавай. Исполняй приказ начальника медслужбы армии… Он не только для медперсонала…
«Молодец Кузаев!»
Выхватил из-под мышки градусник, бросил на стол. Поспешно надел китель. Застегивая пуговицы, охрипшим от волнения голосом сказал:
— Как вам не стыдно, товарищ капитан медицинской службы?
Пахрицина очень удивилась:
— За что мне должно быть стыдно?
— Вы же культурный человек… доктор. Вы не имеете права выдавать врачебную тайну… Вы клевещете на девушку… на женщину… какая разница. И я знаю из-за чего. Все знают о вашей… о вашей любви к Шаховскому. Однако…
Глаза ее вспыхнули гневом, злостью, на осповатых щеках выступили фиолетовые пятна.
— Что «однако»? Что?
— Однако никто не говорит гадостей по вашему адресу.
— Потому что я люблю по-настоящему. И, запомните, буду бороться за свою любовь…
— Таким образом?
Лицо ее залила бледность, исчез гнев в глазах, может, стало стыдно, потому что сказала она почти спокойно, как-то даже обессиленно:
— Не вам меня учить, Шиянок. Молокосос вы, а не жених. Еще один ослепленный дурак.
— А кто первый?
Пахрицина отвернулась и ничего не ответила. Прием закончился. Мази на мои фурункулы нет.
«Разрешите идти, товарищ капитан?» — но спохватился, что может прозвучать издевательски, и двинулся к двери не попрощавшись.
В голове продолжала гореть солома, даже глаза слепили искры. Горько и больно. Успокоил, называется, знаток психологии! Зигзаги ее не самые невероятные. Кажется, Любови Сергеевне был выгоден жених у Лики, это закрыло бы дорогу Шаховскому. Но что ее толкнуло предупреждать меня? Ненависть к Лике — не дать ей такого мужа? Или материнская забота обо мне — чтобы не влип со своей женитьбой? Каковы бы ни были ее мотивы — низкие или благородные, средство, ею выбранное, я не мог принять.
Я осуждал Пахрицину жестоко и долго. Излишне жестоко — про себя называл не иначе как бабой. Но о разговоре нашем — никому ни слова.
Колбенко был прав, сказав в первый день по прибытии в Петрозаводск, что напрасно Кузаев «садит» батарею в бывшем лагере — выселят. На бараки замахивались давно — и гражданские, и военные. Мы отбивались. Пока не облюбовал эти бараки начальник гарнизона под какую-то секретную службу. От генерала не отобьешься.
Пришлось Данилову менять позицию. Батарею приблизили к штабу дивизиона, разместили по соседству, в каком-то полукилометре, лишь бы от залпов не повылетали стекла в домах, в которых всем штабным службам было тепло и уютно.
Батарея окопалась в чистом поле, чтобы иметь круговой обзор с нулевым углом. В первый год войны в Мурманске батареям часто меняли позиции. Вряд ли перемены повышали эффективность обороны. Скорее они были результатом инерции довоенных инструкций, в начале создавали даже ложные позиции — устанавливали деревянные пушки; правда, скоро поняли, что это детская игра, замаскировать зенитную батарею, ведущую огонь, невозможно, ее выявляет первый же разведчик.
Для командиров орудий, приборов, расчетов замена позиции, особенно в зимнее время, в полярный мороз, была страшнее атаки пикировщиков на батарею. Попробуй выдолбить котлованы в скале и для пушек, и для землянок, а тем более построить эти землянки; часто просто было не из чего. На новых позициях первые дни спали на скале, на морозе. Стоило бы гимном восславить не только отвагу и выносливость солдатскую, но в еще большей степени — изобретательность, смекалку! Хочешь жить, иметь нору, где можно отогреть душу, — чего не выдумаешь!
Позже, когда приобрели опыт, высокое начальство поняло бессмысленность замены позиций, перемещения скорее ослабляли боевую готовность. В Кандалакше за год не заменили позицию ни одной батарее.
Не всегда я и в Мурманске понимал логику замены, но начальству виднее — у него высшие тактические соображения. Обрывал бойцов, высказывавших недовольство, а то и «крестивших» тех, кому пришла сумасшедшая мысль в пургу, в полярную ночь перемещать батарею с северной стороны порта на северо-восточную, на какой-то один километр; дальность же огня наших орудий восемь километров. Парни, особенно довоенного призыва, любили «крестить» начальство. Тяжелее было с девушками: те не ругались — плакали от утомления, от неумения, от бессилия и… обмораживались. Вот беда была! Говорят, женщины более выносливы. Верно. Но только не на холоде. Не выносят их пальцы, щеки полярных морозов.
Я переживал за батарейцев. Да и не один я. Муравьев просто болел за людей. Даже Анечка его. Не жили бы мы сами с таким «финским комфортом», как выразился Тужников! Между прочим, один он чуть ли не радовался почти военным условиям хотя бы для части дивизиона: «Пусть сало сгонят». И Данилов удивил: принял приказ о передислокации необычайно спокойно. Цыганская натура. Не нужен ему лагерный комфорт! Еще летом, в жару, он сказал мне, что барачные стены его угнетают; в комнате, где разместился комбат, явно жили офицеры охраны, но и там могли пытать — вот что мучило советского офицера.
Кстати, о пленных. Необычной была моя третья встреча с женщиной, рассказавшей в первое утро нам с Колбенко о финнах, не расстреливающих после Сталинграда пленных, — с той Параской, которая вызвала у меня подозрение и там, во дворе, у своего белья, и на станции, после налета на первый поезд.
Центральный комитет комсомола республики организовал встречу молодежи, военной и гражданской, с партизанами и подпольщиками. И увидел я в президиуме эту самую Параску. А потом Юрий Андропов, первый секретарь ЦК, который вел встречу, объявил:
«Слово имеет прославленная подпольщица стрелочница железнодорожной станции Прасковья Ивановна Плеханова».
Фамилия какая!
Пристыженный, я лихорадочно конспектировал ее рассказ о боевых делах подпольщиков. А на следующий день на политинформации передавал его бойцам с особым душевным подъемом, так рассказывал еще, может быть, только об освобождении Минска.
Колбенко смеялся, довольный, когда я рассказал ему, кто такая Параска. «А что я тебе говорил? Никогда не спеши с выводами. Особенно о людях».
…Кончался октябрь. Каждый день лили холодные дожди. На новой позиции батареи под пластом песка залегала глина, не пропускавшая воду; не могли найти место для артсклада, прятать который необходимо поглубже. После того как выкопали котлованы, вынуждены были перемещаться с обманчивого пригорка в пойму ручья. Низина, а суше, потому что не было глины. Подсказал Шаховский. Когда-то, будучи студентом, он ходил с геологической партией здесь, в Карелии, и познал некоторые тайны местных грунтов и подземных вод.
Данилову сделали выговор, что при выборе позиции он не посоветовался с заместителем командира дивизиона.
Командир батареи, кажется, впервые возмутился против своего начальства:
— Черт знает, с кем из них советоваться! Мне начштаба пальцем указал на пригорок. Да и сам я выбрал бы позицию там; со времен моего скитальческого детства помню: чем выше, тем суше. Так везде, только, выходит, не в этом забытом богом краю.
Высказался он, не обращая внимания на бойцов, копавших новый котлован. Лика, не спрашивая разрешения, вмешалась в разговор:
— Боги никогда не забывали этот край, товарищ старший лейтенант. Боги всегда жили здесь, как на Олимпе.
Данилов сразу подобрел, засмеялся:
— Слышал, комсорг, какие набожные мои девчата?
Но посмотрел на них и снова помрачнел. Работа каторжная. Не для девушек. Шинели намокли, отяжелели, но не все сбросили их — холодно, да и где высушить потом. На сапоги налипло по пуду глины. В общем-то, картина знакомая, видел ее не впервые. Но когда сам работал с бойцами, тогда все казалось нормальным. Кому легко на войне?! А тут пришел из хорошо натопленного дома — виден он отсюда. Пришел с приказом замполита поднять боевой дух. Каким образом? Рассказать о переходе Суворова через Альпы? Тужников слишком верит в силу слова. И я верил. Но перед обессиленными девчатами любые слова, кроме разве что хорошей шутки, казались неуместными.