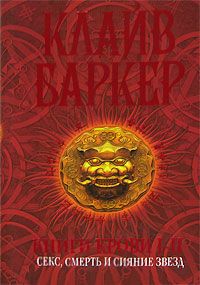Вдали, в нескольких местах, где стояли филиалы буроугольного комбината, глазам открывалась та же картина.
Газгольдеры во всех концах «Брабага» то и дело взрывались, земля всякий раз вздрагивала, пожар гудел, цвет дыма менялся вместе с цветом пламени.
— Глядите-ка, — Кованда кивнул на маленькие огоньки в поле. — Сбитые самолеты!
Ребята побежали по полю. Метрах в восьмидесяти от карьера они увидели ряд глубоких воронок.
— Это были те, первые, — запыхавшись, сказал Гонзик. — Теперь я опять буду ходить в бомбоубежище!
К горевшим самолетам со всех сторон бежали люди, во время налета остававшиеся под открытым небом. Примчалась полицейская автомашина. Первый самолет уже догорал. Ребята увидели искореженный остов, закопченные баки, груду дюралюминиевых обломков, тяжелые моторы, глубоко врезавшиеся в землю. Пулеметные ленты взрывались в тихом, бездымном пламени.
Когда чехи подбежали к ближайшему самолету, от окружившей его толпы отделилась небольшая группа людей и направилась по шоссе к деревне. Первыми неторопливо шагали пять американских летчиков. Простоволосые, и рослые, они шли прямо, свободно, каждый нес в охапке свой шелковый парашют и жевал резинку. За ними плелись солдат-эсэсовец, полицейский в горбатой каске и куча немцев; всю эту процессию молча провожали взглядами французы и чехи, стоявшие вдоль дороги.
Полицейский шагал за эсэсовцем и, не умолкая, поносил летчиков. Не будь кругом такой ужасной обстановки — разгромленных и горящих заводов, пожаров на горизонте — это шествие показалось бы даже смешным, столько в нем было плохо скрытой нарочитости. Полицейский походил на молельщика в процессии паломников, духовного пастыря своих единоверцев. Он изрыгал сквернейшие ругательства по адресу спокойно и уверенно шагавших парней с парашютами, обвинял их в том, что они сражаются против женщин и детей, убивают безоружных людей; ему вторили немцы, шедшие следом, они забегали вперед, к солдату, равнодушно курившему сигарету, и плевали летчикам в лицо, били их кулаками. Из Ремсдорфа примчался какой-то оголтелый велосипедист, спрыгнул с велосипеда и швырнул его в пленных. Американец, которого задело рулем, покачнулся и отер кровь с лица, но даже не взглянул на немца и продолжал шагать, глядя вперед и хладнокровно жуя свою резинку.
Кованда первым отвернулся от этого зрелища.
— Пошли отсюда, ребята, — сказал он. — А то я опять выкину что-нибудь непотребное и получу пулю в лоб. Читал я тут чешскую газету из посылки, что пришла мне на днях, — хмуро продолжал Кованда. — Там напечатана речь одного горлопана, то ли самого Адольфа, то ли того колченогого. Он грозится, что скоро не сможет удерживать своих соплеменников, когда они, в справедливом гневе, захотят пристукнуть союзных летчиков, сбитых над Германией во время бомбежки. Сейчас я смекнул, куда он гнет: они нарочно подбивают немцев прикончить этих летчиков. Не могут расквитаться иначе, так отыгрываются на пленных. О господи, уже по этому одному я вижу, что конец войны близок и что у нацистов дело табак.
На шоссе перед заводом копошились евреи из лагеря: потея и пошатываясь, они засыпали воронки от бомб. Солдаты, свирепее, чем обычно, погоняли их прикладами и дубинками. Евреи пережили весь налет в своих брезентовых палатках, у самого завода, но в их лагерь не упала ни одна бомба. Конвойные немало удивлялись этому.
На заводе царил полный разгром: дороги разрушены, рельсы порваны, как нитки, целые куски их выворочены вместе со шпалами и отброшены в сторону, газгольдеры пылают, как круглые олимпийские факелы, стрела на гигантском подъемном кране надломлена, трубопровод, тянувшийся над головами, разорван, двухметровые трубы, похожие на лопнувшие сосиски, валяются на земле. От деревянного домика, где помещалась контора фирмы Дикергоф и Видман, осталась только куча головешек. Кругом летали счета, расчетные листки, рапортички и другие документы. Столовая у главного входа, кормившая ежедневно несколько тысяч человек, уже никогда не сварит ни одного обеда, заводской гараж стал могилой нескольких автомашин; два новых, еще не достроенных бомбоубежища разбиты вдребезги, три корпуса, где уже были установлены мощные турбины, разбомблены; лаборатория еще горела ярким, спокойным пламенем, склады, трубопровод, домики, будки, рельсы, вагонетки, лопаты, экскаваторы, железные прутья, заборы, бумаги, кирки, крыши, окна, балки — все было исковеркано, перемешано и покрыто свежим десятисантиметровым слоем пыли.
Заводоуправлению, как и прежде, повезло: на него, правда, упала полутонная бомба и пробила пять железобетонных перекрытий, но не взорвалась и осталась торчать в полу первого этажа. Ее вытащили и положили на тротуаре, она напоминала сердитого кастрированного бульдога.
Пленных летчиков привели в Ремсдорф, туда за ними приехал военный грузовик. Ирка и Эда стояли рядом, когда вели американцев. У Эды на пилотке была кокарда — чешский лев, такая, как носили в старой чехословацкой армии. Один из летчиков пристально взглянул на нее и тихо сказал: «Передай привет нашим на родине». Это был чех.
Густу и Богоуша бомбежка застала далеко в поле. Неподалеку от них спустился на парашюте американский летчик. На Богоуше и Густе были английские куртки, которые в последнее время командование батальона выдавало трудовым ротам. Ребята подбежали к летчику и помогли ему выпутаться из парашюта. В этот момент к ним подскочил немец с ружьем:
«Руки вверх!» Богоуш стал было объяснять, но солдат ничего и слышать не хотел, знай орал свое «Maul halten!»[88] и угрожающе щелкал затвором. Он отвел всех троих в деревню, и только там полицейские выяснили, что двое из них — действительно чехи.
Весь персонал завода был брошен на аварийные работы. Три чешские роты взялись за лопаты, возились в пыли, таскали кирпичи и балки, рыли и грузили землю, но чаще постаивали, злорадно поглядывали вокруг и говорили с удовлетворением:
— Ну теперь-то, наверное, немцы плюнут на этот завод и оставят его зарастать травой.
Но они ошиблись. Приехала особая комиссия, осмотрела все разрушения и решила снова восстановить «Брабаг». Для этого туда прислали еще пять тысяч рабочих и перевезли оборудование из разбомбленного завода в Леуне.
Трубы «Брабага» должны были снова задымить через два месяца.
Пепик заболел гнойной ангиной. Санитар Бекерле доложил об этом капитану, и тот милостиво освободил Пешка на несколько дней от работы. Вечером Карел перевел Пепика в изолятор, где уже лежал Ота Ворач.
— Гнойная ангина — отличная болезнь, — ораторствовал Ота, обрадованный тем, что он наконец избавлен от скучного одиночества. — Мои фурункулы — вот это, братец, гадость! В жизни у меня ничего такого не бывало, а тут они меня одолели. Мама пишет, что это от плохого питания, она там, дома, советовалась с врачом. Скверная жратва портит кровь, жрем-то мы маргарин и всякую дрянь. Ты себе не представляешь, где только ни выскакивают эти чирьи! Я даже ходить не могу, дружище!
Пепику было не до разговоров, температура у него поднялась до сорока. Санитар Бекерле лечил его порошками, и Пепик неутомимо полоскал горло, изводя за день чуть не по ведру полоскания. Жар долго держался и спал только через неделю, но Бекерле все еще не нравилось горло Пепика.
— Отправим-ка тебя в больницу, — опасливо сказал он. — Похоже на дифтерит… Там тебе будет лучше. И не дыши ты на меня, дифтерит тяжелая болезнь и очень заразная. Не дай бог мне подхватить ее!
Пепик с трудом добрался до своей комнаты, сложил в мешок пожитки и сдал их в кладовую.
— Надеюсь, это ненадолго, — сказал он, никому не подавая руки, и добавил виноватым тоном: — Я не прощаюсь, хочу поскорее вернуться.
Кованда рассердился.
— Полежи-ка там подольше, надо ж поправиться! А то ты словно из гроба встал. Пусть тамошние коновалы поинтересуются твоим кашлем, так им от меня и передай.
Карел пошел проводить Пепика. В больнице, за окошечком приемного покоя, сидела девушка лет шестнадцати. Она приняла Пепика и, услышав слово «дифтерит», отсела подальше и издалека допрашивала Пепика, записывая сведения. Это было очень утомительно. Девушка перевирала чешские имена и названия и наконец покорно захлопнула регистрационный журнал, потому что на все вопросы Пепик отвечал лаконично: «не помню», «не знаю», «забыл».
С фасада больница выглядела даже нарядно, но узкий и грязный двор, запущенный сад — все это было неказисто. Некоторые отделения разместились в домах, раньше явно не принадлежавших больнице.
Около инфекционного отделения товарищи расстались.
— Ну, пока, — сказал Карел, пожав Пепику руку. — Смотри, не валяйся тут долго, нам будет без тебя скучно.