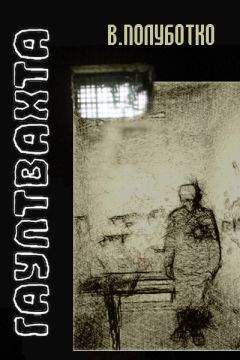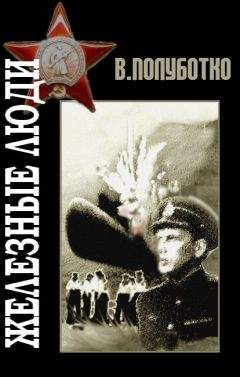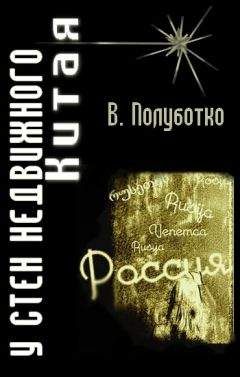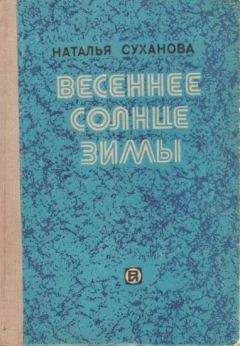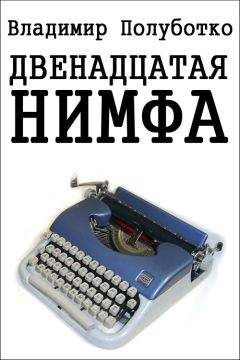— Ну вот — опять! — брезгливо морщится Кац. — Ну сколько можно?
Злотников:
— Сколько надо — столько и будет! Заткнись!
Кац замолкает. А Лисицын продолжает:
— И потом бы ещё разик! И ещё!.. И ещё!..
С этими словами он вскакивает с места и начинает бегать вокруг стола.
На крысиной мордочке — страдание и сладострастие, изо рта клейкою ниточкою свисают слюни, а из носа, по усикам — сопли; руки держатся за переднее место. Ещё несколько оборотов вокруг стола и — пальцы с грязными ногтями жадно расстёгивают ширинку: ух! ух!.. а-а-ах!..
Кто хохочет, кто морщится, а кто и кривится от омерзенья.
Наконец Злотников подставляет маньяку ногу, и тот падает на пол, а упав — и удачно — вовсе и не думает вставать; вместо этого, он корчится на холодном цементном полу, извивается, стонет, захлёбывается чем-то, как будто идёт ко дну.
23
За окошком камеры номер семь — снег.
Он тает, просачивается сквозь худую раму; вода стекает по исцарапанной надписями стене на пол камеры. И образует лужицу.
Лисицын брякается лицом в эту лужу и лежит так, приходя в себя. Ледяная струйка воды попадает ему за шиворот, на голову…
Косов упрекает Злотникова:
— Ну зачем ты его опять раздразнил? Знаешь же, что ненормальный, и зачем же его дразнить?!
Злотников в ответ только ржёт и ничего больше.
Косов же встаёт и брезгливо пинает упавшего.
— Вставай, ублюдок! Какая только потаскуха тебя на свет родила!.. Таких, как она вешать надо!.. Вставай, шизик вонючий!
Совершенно неожиданно подаёт голос Аркадьев:
— Вот же пакость какая!
А Бурханов скорее восхищён, чем возмущён.
— Половой гангстер! Во даёт, а?
Кац неопределённо улыбается — то ли он «за», то ли он «против». Не понять.
Полуботок молча опускает голову в колени. Сидит, отбывает срок.
24
А на гауптвахте всё идёт своим чередом: двое часовых шёпотом болтают о чём-то в коридоре гауптвахты, старший лейтенант Домброва сидит в своём кабинете под портретом Ленина и спокойно читает газету «Советский спорт»; кто-то томится в одиночной камере, а кто-то — в общей…
25
Камера номер семь.
Всё спокойно, все сидят по-прежнему в своих обычных позах. Лисицын сладко дремлет.
— Так говоришь, бабуся болеет по-прежнему? — спрашивает у Злотникова Полуботок.
Тот отвечает совершенно нормально:
— Болеет.
— Ну а мать-то как? Пишешь ей письма?
— Пишу. И она мне пишет. Да только не все письма от неё доходят до меня.
— Да ты откуда знаешь, что не все?
— Чувствую. А доказать не могу. Перехватывают — те, кому положено.
— Ну я-то думаю, она понимает: что можно тебе писать, а чего нельзя.
— Мало ли что ты думаешь! А она вон пишет всё, что ей в голову взбредёт! У них же там — демократия. Дошло до того, что уже чуть ли не к себе стала звать. Со мной уже и командир полка беседовал, и из КГБ со мной беседовали…
Вмешивается Косов:
— Это за что же тебе — такая честь? Гляньте на него! Все с ним беседуют! Ты что — персона важная?
— А, иди ты! — отмахивается от него Злотников и с явным удовольствием продолжает прерванный разговор с Полуботком. Нормальный тон и нормальное выражение лица у него уже прошли, и он опять чего-то из себя строит, сообщая нечто невероятное для простых советских смертных: — ну а недозволенные-то места — все смыты.
— Как смыты? — удивляется Полуботок.
— Химикатами… Вижу, что было здесь что-то написано, а что — разобрать не могу. Бывает, что и целые строчки смыты…
Бурханов уже не может усидеть на месте от любопытства:
— Ничего не пойму — какие там у тебя письма?
— Заткнись! — рявкает Злотников. — Не с тобой говорят.
Но тогда в разговор встревает Косов.
— Ну мне-то ты можешь объяснить — какие письма и почему там, в них, всё смыто?
— Тебе — можно. Ты — человек. — Поворачиваясь к старшему по камере, рядовому Кацу, Злотников небрежно бросает: — Ну-ка ты, придурок, встань!
Кац, не понимая, в чём дело, встаёт с табуретки. Злотников придвигает табуретку к себе и кладёт на неё ноги — так ему намного удобнее приступать к повествованию, которого все, а прежде всего он сам, так страстно жаждут. А Кац — тот так и стоит, лишних-то табуреток в камере нету.
Косов говорит:
— Ну, рассказывай!
Злотников кивает на Полуботка:
— Он пусть расскажет. Мы с ним первые два месяца прослужили вместе. Дружили тогда — не разлей водой. Он всю мою историю знает.
Полуботок приступает к рассказу:
— Мать у него много лет назад, когда он ещё маленьким был, сумела выехать за границу.
— Выехать? — в волнении кричит Кац. — Но этого не может быть!
— А ты — стой, где поставили, и молчи! — советует ему Злотников.
Полуботок продолжает рассказывать:
— Она была переводчицей в составе одной нашей делегации и вот однажды взяла да и не вернулась из Америки. Вышла замуж там за американца, создала там новую семью. А сына и мужа бросила в России. Правильно я говорю?
— Правильно, правильно, — кивает Злотников.
Полуботок продолжает:
— Отец у него вскоре после этого помер, вот его и выкормила-вынянчила старая бабка — отцова мать.
Бурханов и верит, и не верит.
— И что же? Твоя мать теперь в Америке живёт?
— В самих Соединённых, значит, Штатах, что ли? — уточняет вопрос Косов.
— Да, в Нью-Йорке.
Никто и не замечает, что Кац, стоящий у белой стены, на фоне всяких дурацких надписей, приходит в состояние глубочайшего замешательства.
— Но этого не может быть!!! — кричит он.
Злотников лишь небрежно бросает через плечо:
— Да пошёл ты!
И нарочито скучным голосом добивает всех слобонервных сообщением:
— Посылки мне высылает. С вещами. Каждый год.
Бурханов потрясён:
— Посылки? С заграничными вещами??? — Медленно приходит в себя. — Вот это да-а-а! Мне бы такую ма-а-ать!
— А журналов с голыми бабами она тебе не высылала? — это, конечно, Лисицын.
— А ты молчи! — кричит ему Косов. — Здесь — вон какое дело, а ты всё о своём!
Бурханов же тихо твердит скорее самому себе, чем окружающим:
— Мне бы такую мать! Если б вы знали, какая она у меня зараза, моя мамаша! — Везёт же людям!
26
По коридору прохаживается часовой с карабином.
Старший лейтенант Домброва сидит в своём кабинете и, смеясь, говорит по телефону:
— Нет, Лидочка, сегодня не могу… У меня сегодня вечером партсобрание… Встретимся завтра… в доме офицеров…
Ещё один часовой ходит по двору.
27
Камера номер семь.
Рядовой Злотников напустил на себя ещё большую важность и, судя по выражению его лица, философствует.
А публика внемлет.
— Вы думаете, меня на такое возьмёшь? Посылочки, шмотки и всякое там такое? Родина — вот для меня что важно! Родина и Партия!
— Так прямо-таки шмотки иностранные тебе и не нужны? — спрашивает Бурханов с очень большим сомнением в голосе. — Всё только родина да партия? Ну ты и даёшь!
А Лисицын хихикает с ещё большим сомнением:
— А бабы?
Злотников терпеливо проясняет свою идейную установку:
— Это всё, конечно, хорошо: и чтоб барахло всякое было, и чтобы водочка не переводилась, ну и насчёт баб… Но вы поймите правильно мою позицию…
— Хо-хо-хо! Во даёт, а? — изумляется Бурханов. — Позицию!.. Профессор!..
Злотников, не свирепея, вполне пока по-хорошему продолжает гнуть свою линию:
— Поймите меня правильно: самое для меня важное — это, чтоб Родина! Это, чтоб Партия!
Что-то в этих его словах есть и дурашливое, и торжественное одновременно. Полуботок слушает-слушает — очень внимательно, но не верит ни единому слову. Вспоминает:
28
Лето 1970-го года.
Удивительный ландшафт предгорий Урала: плоская степь, на которой то там, то сям торчат отдельные как будто бы вырезанные из совсем другого пейзажа холмы или даже невысокие горы, покрытые лесом.
Рота молодых солдат, а это сто двадцать человек русских и азербайджанцев, одетых в форму точно такую же, какая была во времена Второй Мировой войны (к тому времени в этой части Советского Союза эта форма была ещё не отменена).
Рота бежит где-то в тесном пространстве между двумя горбами одной горы то вверх, то вниз по извилистой тропинке, поднимая при этом невообразимую пыль. Солнце палит нещадно, лица и одежда у всех — потные и грязные. И все страшно устали… И бег этим людям даётся очень тяжело ещё и потому, что бегут эти люди отнюдь не налегке, а с автоматами, подсумками, лопатками и самое главное — с вещмешками.
Между тем, кто-то уже не в силах больше бежать; солдаты покрепче забирают у таких рюкзаки и автоматы, подхватывают таких под руки слева и справа и облегчают ослабевшим физические страдания. Одного так даже — и на руках несут. На бегу!