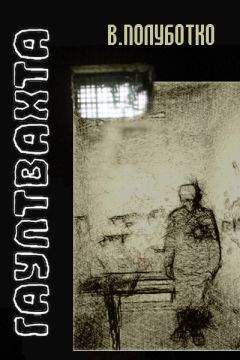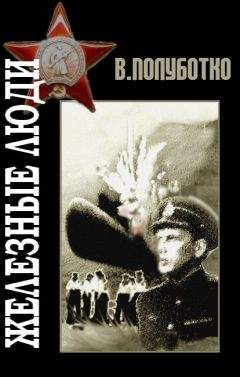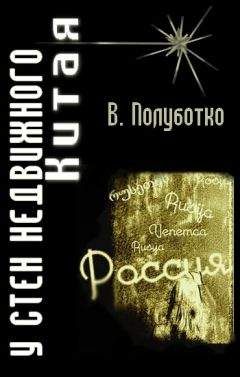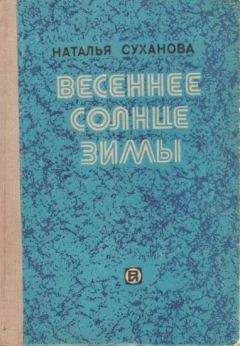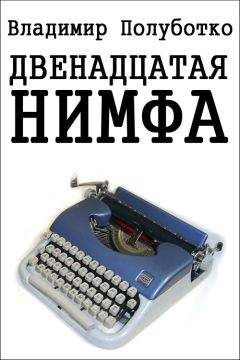Бежит и рядовой Полуботок — обливается потом и тяжело дышит.
Его догоняет Злотников. На нём два вещмешка — один на спине, а другой на груди. На правом плече — целая пачка автоматов.
— Устал? — кричит он сквозь топот сапог Полуботку. — Давай возьму твой вещмешок!
— Спасибо!.. Не надо!.. Я — сам!..
— А то смотри, мне не тяжело! Я один уже взял, а надо будет — смогу свободно ещё парочку на себя взвалить…
29Камера номер семь.
Злотников вроде бы как заканчивает свой важный и ответственный рассказ. И вроде бы как добреет. И неторопливо убирает ноги с табуретки и двигает её в сторону всё ещё стоящего Каца:
— Ладно, так и быть! Садись!
Кац пытается было сесть, но Злотников быстрым движением ноги выбивает табуретку из-под него, и тот шмякается на пол.
Всеобщее ржание.
— Я передумал, — заявляет Злотников. — Ты пока ещё постой, а я ещё что-нибудь расскажу.
Кац никак не может подняться с пола.
— А ну встать, когда с тобой говорят старшие! — рявкает Злотников.
И не поймёшь — то ли он так шутит, то ли и в самом деле — пребывает в гневном состоянии.
Кац, морщась и преодолевая боль и обиду, послушно вскакивает. Стоит.
В камере — свои законы. И их следует выполнять. Это трудно объяснить простому человеку на воле, ибо тот, кто не сидел в общей камере со всеми её раскладами, тот никогда этого не поймёт.
Кац понимает. Другие смотрят на него и тоже учатся чему-то своему.
30
Всё те же предгорья Урала.
И всё те же бегущие солдаты. Но на этот раз движутся они уже по совершенно открытому и плоскому пространству.
Один из азербайджанцев отказывается бежать. Ложится на траву, орёт, визжит, плачет, бьёт кулаками по земле и на чудовищном русском языке заявляет, что больше он не может, не хочет, не потерпит!.. Его пытаются поднять, но он отбрыкивается, кусается, что-то выкрикивает на своём языке…
В это дело вмешивается офицер. В шуме и в суматохе он что-то приказывает своим сержантам, и вот уже вся рота изменяет свой маршрут и начинает бегать вокруг упавшего.
— Вставай! — орут упавшему солдаты. — Это мы из-за тебя бегаем!
Азербайджанец понял только то, что его оставили в покое и можно лежать и дальше.
Лежит.
А рота бегает вокруг него и бегает. Лишнее бегает. А это больше сотни человек. И все орут на него, и все проклинают его, и все ненавидят его.
А он всё лежит и лежит. Настаивает на своём. Глаза у него дико вращаются то в одну сторону, то в другую…
До него не доходит, что он перележал все мыслимые сроки.
Из толпы солдат вырывается доверху гружённый вещмешками и автоматами рядовой Злотников. Подбегает к лежащему. От имени разгневанных народных масс пинает любителя полежать так, что тот корчится от боли и, кувыркаясь, пытается уклониться от ударов.
Подбегающие азербайджанцы поднимают своего. И волокут его, плачущего и побитого. И только тогда рота перестаёт двигаться по кругу и дальше уже бежит по прямой линии.
31
Камера номер семь — спустя некоторое время.
Кое-кто хохочет.
Злотников держит Аркадьева за шкирку и тычет беднягу носом в Уставы, лежащие на столе.
— Ты у меня, падла, наизусть будешь знать Уставы! Наизусть! Чтобы к завтрему выучил «Знамя части» и «Поведение военнослужащих при увольнении в город»! Понял?
С этими словами он швыряет Аркадьева на стол.
Народ безмолвствует.
— Так-то вот у меня… Все поняли? Я не потерплю беспорядка в этой камере! Высокая идеологическая сознательность — вот наш девиз боевой! — Ржёт. — Ну а теперь, товарищи, повестка дня у нас такая: будем пердеть!
С этими словами он выходит на середину камеры, опускает голову ниже колен и:
ПППА-ПА-ПАХ!!!
— Кто пёрнет громче?
Косов обретает голос и возражает вождю:
— Мелко плаваешь. Если по пятибалльной системе, то это вытянет не больше, чем на три балла!.. Ну-ка я попробую…
Выходит на середину камеры и делает то же самое, но уже — гораздо успешнее!
Бурханов кричит:
— Вот это — на все пять баллов!
Злотников почему-то не возражает. Его переплюнули, а он не возражает!
— Согласен. Пусть. Кто следующий? Кто подхватит мою творческую инициативу?
— Во даёт, а? — Бурханов аж заходится от восторга. — Творческую инициативу! Чешет — как профессор!
Злотников ловит угрюмый взгляд Полуботка:
— Что? Не нравится, да?
Полуботок в ответ лишь усмехается — мрачно и презрительно. У него за спиною — белая стена с дурацкими надписями.
Неожиданно вскакивает Лисицын. Он подходит к Полуботку и, развернувшись к нему задницей, опускает голову чуть ли не до пола.
Раздаётся звук.
— Я пёрнул громче всех! Я громче всех! Мне положено семь баллов!
— Да какие же семь?! — возмущается Бурханов. — Ну, какие семь?! Мы-то пердим по пятибалльной системе!
32
Камера номер семь.
Кажется, в ней произошло некое расслоение: совершенно явно вокруг Злотникова сгруппировались Косов, Лисицын и Бурханов; совершенно явно Полуботок и Кац пытаются найти друг с другом какой-то контакт. И лишь Аркадьев одинок.
Злотников говорит в своём кружке:
— …А когда она стала проситься: «Отпустите меня, ребятки, я уже больше не могу!» Я ей и говорю: «Да ты же, стерва, не сама ли к нам пришла? Мы же тебя не звали! Вот и терпи, пока через тебя весь взвод не пройдёт!» А она тогда и говорит: «Так мне ж невтерпёж стало, вот я и пришла!.. Но ведь я же не так хотела!» А я ей: «А нам тоже невтерпёж, вот мы и хотим теперь так, как мы хотим!»
Лисицына возбуждают эти слова:
— Мне тоже однажды было невтерпёж! Вот я вам расскажу, какой у меня случай был!..
А в другом кружке Кац говорит своему единственному собеседнику:
— Вся беда в том, что у нас, в Ленинграде, стать товароведом в приличном магазине — не так-то просто. И это притом, что у меня отец — директор неплохого комиссионного магазина и кое-какие связи имеет.
А Полуботок ему возражает:
— Слушай, но если всё так, как ты описываешь, то тогда зачем ты столько лет учился музыке?
— А я люблю музыку, — отвечает Кац и как-то многозначительно при этом улыбается.
А Злотников тем временем — царь и бог в своём кружке:
— Ну, тут я её и завалил. И — давай! А она — как начнёт орать!
Его слушают и слушают.
— Ну тут я выхватил нож и говорю ему: отвали! А он мне…
В другом кружке беседа протекает в совершенно иной тональности. Полуботок, отвечая на какой-то вопрос, говорит Кацу:
— А я с детства люблю немецкий язык. Переводчиком хочу стать.
— Говоришь свободно? — спрашивает Кац.
— Нет. Говорить с настоящими немцами у меня почему-то не получается. Теряюсь как-то, что ли — они тарахтят слишком уж быстро для меня. А книги читаю. Я хочу стать литературным переводчиком.
Шум-гам в другом стане мешает ему говорить. Галдёж вокруг Злотникова усиливается.
Косов кричит:
— Эй ты! Интеллигент! Правду он говорит или нет?
— А?.. Кто?.. — отзывается Полуботок.
— Да вот он, Злотников. Правду он говорит, будто бы он срывал погоны со своего командира роты?
— Да брешет, конечно! — это Бурханов.
Полуботок спокойно отвечает:
— Правду. Что-то такое я отдалённо слышал. Впрочем, подробностей я не знаю. И даже не знаю, кто именно это сделал. И даже впервые слышу, что это сделал Злотников; сколько я его помню, он всегда был безобидным малым, который и мухи не обидит.
— Я же сказал: брешет! — это опять Бурханов.
Косов вздыхает даже с каким-то облегчением:
— Фу-у-у… А я-то думал, что и вправду… Только трепаться и умеешь, комментатор-международник!
Злотникова эти слова сильно задевают, и он от волнения аж вскакивает с места.
— Это кто комментатор?! Кто международник?! Да я всю одёжу на нём изодрал! Погоны посрывал с плеч и ногами топтал! Перед всем строем! А он, Полуботок, он же — не из нашей роты! Мы же с ним служим теперь в разных ротах! Откуда же ему знать?! Наша рота — в одном конце города, а его — в другом!
Кац тоже сомневается:
— Но как же так — ведь всё-таки КОМАНДИР РОТЫ?
Злотников успокаивается. Смотрит на всех и видит: ему никто не верит, но все готовы слушать, что же он скажет дальше — в оправдание своей брехне.
— Я ведь у него, у гада, личным шофёром был… Выручал его, падлу, из всякой беды… Через то он меня и взял личным шофёром, что я-то — в любой драке пригодиться могу! Я ж ему заместо телохранителя был… А Полуботок прав — я ведь до армии тихоней был. Почти и не дрался никогда. Ну а как попал служить сюда, так меня такое зло взяло!.. Ведь незаконно же меня призвали! Ведь не имели же права! Я для своей бабки — единственный кормилец. Она всю жизнь проработала в этом колхозе проклятом, и на старости лет она теперь — почти нищая. Я для неё — единственная помощь! А меня забрали от неё, чтоб она там, в деревне, сдохла с голоду совсем! Отработала своё, и сдыхай! Ну и я…