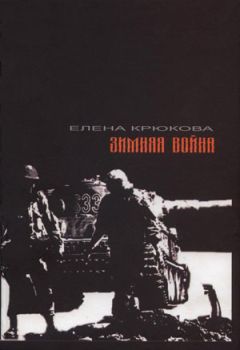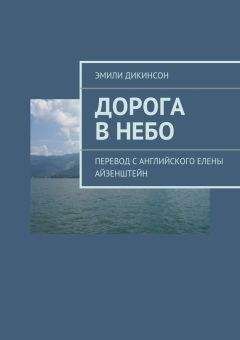— Ну, с Богом. Прощай.
— Ты прощаешься со мной?..
— Как видишь. Еще рано прощаться. Еще такси не пришло. Ты все уложила? Ничего не забыла?
У двери стояли два перехваченных крепкими ремнями чемодана. Она гладко, скромно причесана. На ней длинный, до пят, плащик с бантом, на беличьем меху, сумка через плечо. Лех подошел к чемоданам, поднял их, оба сразу, пробуя на вес.
— Замучаешься ты там, с пересадкой в Варшаве. Тяжеленные. Будто в них не подарочные цацки всякие, а булыжники. Банка с селедкой там?..
— Там, конечно. Не сходи с ума.
Он подошел к ней, взял ее лицо в ладони. Долго глядел на нее.
— Мы не полюбовались им напоследок. Он у селедки в животе. Как хорошо, что ты не селедка. А то таможенники разрезали бы тебя.
Они засмеялись оба.
— Ты беспечный. Передавали вести с Войны. На Восточном фронте наступленье врага.
— Мне все равно. Враг, друг. Я все равно там окажусь опять.
Она поправила выбившийся из-под мехового беретика локон.
— Я бы не хотела, чтоб это произошло так быстро. Я волнуюсь. А ты не волнуешься совсем.
— А что мне волноваться. Ты у меня умница. Вот я в кинотеатре перед фильмом, вместе со Стивом, представлю новую пантомиму — будет называться «Сцена на таможне». Как ты трясешься и прячешь банку под юбки.
— Я никогда не трясусь, ты знаешь. А потом… — она засунула руку в карман плащика. Достала смит-вессон. — Мне не страшен серый волк.
— Ты с ума сошла. Ты же не умеешь стрелять. Где ты его купила? Это не игрушка, слушай. И как ты его провезешь через границу. Вот тут тебя точно накроют. Сумасшедшая.
— Мы все сумасшедшие, Лех. А что касается стрельбы…
Она оглядывалась, озиралась по сторонам. Увидела яблоко на столе. Схватила яблоко. Повела Леха за руку, как ребенка, в спальню. Положила яблоко ему на голову, сама выбежала в гостиную, видела, как он стоит с яблоком на голове, о, расстоянье от оружья до человека ничего не стоит, — а жизнь человеческая, вместе со всем оружьем, деньгами, войнами, драгоценностями, любвями и ненавистями, — стоит — чего?!
— Стой так! Не шевелись!
— Ты спятила. Я не хочу так. Ты что, рехнулась?.. брось револьвер сейчас же…
Он стоял, выпрямившись, раскинув руки в стороны, удерживая равновесьем яблоко на затылке, послушно и неподвижно, весело улыбаясь. Воспителла, вздохнув, быстро прицелилась, выстрелила. Раздробленное яблоко упало на пол. Пуля застряла в стене. «Пятизарядный, четыре заряда осталось», - шепнула она удовлетворенно и закрыла глаза. Лех подошел к ней, как слепой, вытянув вперед руки.
— Девочка, ты…
— …спокойно, Лех. Нам предстоят тяжелые деньки. Эту игрушку мне подарил мой духовник. Исповедник. Отец Ионафан, иеромонах. Я к нему ходила на исповедь, ходила… и однажды… я все ему рассказывала, Лех, все… про свои желанья… про страхи… про предчувствия. До встречи с тобой… ты знаешь… за мной стали следить черные люди. Они вынюхивали меня везде… на улице… в концертных залах… на вечеринках у друзей… велик наш град Армагеддон!.. да не спрячешься… Ионафан… у него такие длинные золотые волосы, как у девушки, висят по плечам… он безбородый, у него чудесная улыбка… я понимала, что он — не священник… церковь для него — вроде мафория: снял — надел… Однажды он спас меня… спрятал от них. Они хотели напасть на меня прямо в церкви… он спрятал меня…
Она отвернулась от него. Она задыхалась.
Они могли опоздать на поезд. Он выглянул в окно. Машины не было.
— Вот как. Ты его… любила?..
— Ты… не можешь меня спрашивать так. Я любила всех, с кем я была. Я никого на свете не люблю, кроме тебя. — Она улыбнулась, спрятала револьвер в карман, поправила непослушную прядь. — Я не думала, что ты ревнивец. Ты ревнивец, ты израненный ревнивый царевич, а я твоя красавица. И я тебя не ждала, а кокетничала с другими. А Исупов и Серебряков — уехали?..
— Нет. Они еще здесь. — Они вместе вышли в коридор, он напялил теплую куртку. — Они уедут тогда, когда я получу твою телеграмму из Парижа, что все в порядке.
Он взял ее руку в свою. Она вздрогнула. Ее глаза стали огромными и бездонными. Север и тьма, и лютый холод, и звезды просияли, заблестели в них.
— Ты жжешься. Твоя рука жжется. Ты — огонь. Ты моя Война. Ты мое сраженье.
— Не надо телеграммы. Приезжай сама. Ты. Живая.
— Люди иногда умирают в сраженье, Лех.
Их глаза ударились друг об друга, как клинки, просверкнули.
Она вырвала руку, подбежала к окну, прижала лицо к стеклу.
— Такси!
…поезд «Брест — Щецин». В Варшаве ей надо сделать пересадку на парижский поезд. Мерный стук колес. Вагон плавно покачивается, подается из стороны в сторону. Ночь. Ах, убаюкивает как. Горит мягкого света ночник. Настольная лампа погасла. Ты дремлешь на подушках, Воспителла. Ты слышишь сквозь сон: по вагонному коридору — тяжелые, медленные шаги. Голоса. Ты вздрагиваешь. Приподнимаешься. Прислушиваешься напряженно, мучительно, не открывая заспанных глаз. Нет, показалось. Снова тихо. Тишина. Она в купэ одна, никого к ней не подсадили. За окном несутся, мелькают молниями зальделые реки, заснеженные деревья, села с домами под высокими нахлобученными снежными шапками, лиловые резкие, больно бьющие по глазам огни станций, разъездов, полустанков. Скоро граница, Буг. Она подносит руку ко лбу, медленно крестится. Шепчет молитву. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, благословен плод чрева Твоего. Плод чрева моего. Мое чрево. Я была с Лехом много раз, и ни разу не зачала. Куда бы я ломанулась с ребенком в брюхе в Париж, с сапфиром в кулаке, повязанная со звериной военной разведкой. И Анастасия — фигура на доске; Анастасия — ферзь, она — пешка. Она закуталась в теплый пуховый платок. Козий пух, ангорская шерсть, кружевная, тончайшая вязка. Она не Царица. Она не Царевна. Она простая баба, хоть у нее и родня в Париже.
Она снова улеглась в подушки. Тарахтенье колес, мерное, усыпительное. Спи, девочка. Спи, усни. Угомон тебя возьми. Баю-бай. Баю-бай. Кто так пел ей давно, когда она еще не понимала, кто она, зачем она. Кто склонялся над ней, русыми волосами щекотал ей лоб, щеки. Мать?! У нее никогда не было матери. Она засыпает. Ей снится сон. Вся наша жизнь есть сон. Почему во сне бьет маленький, резкий, противный барабанчик. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Это ее сердце. Это ее сердце считает удары ее жизни. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Сколько еще осталось. Сколько. Сколько. Господи, унеси Войну. Отведи Войну. Возьми Войну к Себе на небо. Возьми ее у людей навсегда.
Поезд бежит вперед, колеса стучат неостановимо. Мерно, тяжело раскачивается вагон. Она беспокойно ворочается на подушках, смеется во сне. Состав замедлил ход, тормозил, перестукивая железными сцепленьями, визжа колесами о морозные рельсы. Остановка. Тересполь. Приграничная станция — уже польская.
В дверь ее купэ резко, требовательно постучали.
Она вздрагивает, просыпается. Или это ей тоже снится? Улыбка слетает птицей с ее губ. Она судорожно нашарила рядом с собой сумочку. Там револьвер. Она засунула его в косметичку. Возможно, деликатные таможенники не станут копошиться в дамских вещицах. Ха! Благородные сыщики. Она будет ясно улыбаться им. Изогнувшись на вагонной полке, она дотянулась до зеркальной двери, откинула задвижку. Дверь распахнулась. Вошли люди. Ты никогда не видела таможенников, Воспителла?! На рукавах у них традиционные повязки приграничных польских солдат. Зачем на них черные очки! Зачем у них холеные, тонкие руки с мышцами, что выступают и бугрятся, заставляя вспомнить о каратэ-до! Бегай глазами по черным стеклам, пытайся поймать хоть искру живого взгляда. Напрасно. Холеные лица приближаются к ней, черное стекло блестит непроницаемо. Это ночь. Это ужас. Ее вежливая улыбка. Ее отодвиганье дальше от них, к окну, в угол, где на стене торчит синий фонарь ночника. Синий свет. Синий камень в брюхе селедки. Рыба, беременная мировой драгоценной загадкой. Ее улыбка становится кривой, надменной. Покажите ваши документы, мадам. Паспорт?.. Виза?.. Спасибо, все в порядке. Они ставят ей печать в паспорте. Они глядят на нее черными равнодушными стеклами. Успокойся. Они тебя не тронут. Нас интересуют ваши чемоданы. Покажите, пожалуйста, ваши чемоданы, мадам. Ты рано успокоилась. Да ты вся дрожишь. Улыбайся, черт побери! Возьмите сами с полки, они тяжелые. Какая милая улыбка у мадам. Улыбайтесь еще, нам нравится ваша улыбка. Она уже прекрасно знает, что это не таможенники. И они знают, что она — догадалась. Ух, и вправду, тяжеленные!.. а что же там в них везет пани, а?.. неужто все подарки для родни, друзей?.. Я еду в Париж. У меня в Париже любимая родня. Я везу много подарков. У меня пересадка в Варшаве. Варшава город столь же красивый, как Париж. О, что вы, мадам, много красивее. Согласна. Тут одни подарки. Вы убедитесь. О, презенты!.. ну, поглядим… Пан идеально говорит по-русски. Пан жил в России?.. учился?.. У пана отец или мать — русские?.. Да, пожалуй. Страх. Сзади, со спины, на плечи наваливается мягким зверьим брюхом дикий страх. Открывай, Вацлав!