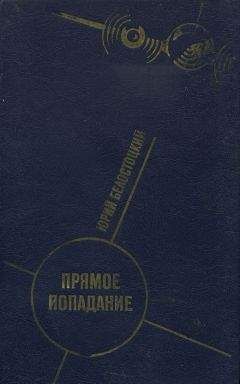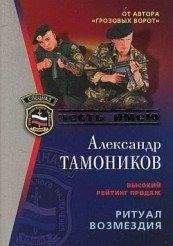… Самолет Серебрякова какое-то время шел прямо и вровень со всеми, потом начал терять скорость, приотставать, а когда Рапохин снова заставил себя посмотреть в его сторону, он уже лежал на левой плоскости и медленно скользил вниз, как раз на круглое, как блюдце, озерко. Почти у самого озерка встречный поток воздуха вырвал из его хвоста несколько рыжих клочьев, которые, повисев немного, один за другим погасли.
А «мессершмитты», дав эскадрилье крохотную передышку — Рапохину ее хватило лишь на то, чтобы облизнуть ставшие нестерпимо сухими губы, — уже заходили на новую атаку, только теперь не с хвоста, а сбоку, справа, почти под углом в девяносто градусов, неожиданно вынырнув там по-щучьи резво и игриво, будто из глубины за наживкой. Качнув крылами и показав бледную чешую животов, они сразу же нацелились на флагмана и пошли на сближение. На этот раз Рапохин их видел хорошо, как на ладони. Ему особенно бросился в глаза ведущий первой пары. Насилуя мотор, он заметно опередил ведомого, приближался настолько быстро, что буквально распухал на глазах, и впрямь походил на щуку, заглотнувшую добычу, — не хватало только ощеренной пасти. Рапохин внутренне подобрался, но страха не почувствовал, только злость. Правда, ощущение одиночества и какой-то тошноты все же было, но не они сейчас заставляли его почти вплотную прижиматься к флагману, едва не рубить винтами его стабилизатор и косо прицеливаться к ручке аварийного сброса фонаря кабины, раздражающе красневшей справа. Все это он делал скорее подсознательно, автоматически, по давно выработавшейся привычке, чем из чувства страха…
Огонь «мессершмитт» открыл не сразу, а лишь после того, как убрал небольшой крен, видимо, мешавший ему прицелиться поточнее. Его длиннейшая очередь едва не опоясала все небо. И снова в эскадрилье вспыхнул факел, уже справа от Рапохина, снова, роняя искры, кровоточа огнем, к земле понесся — уже второй по счету — бомбардировщик. Рапохин даже не сразу сообразил чей, и только когда эскадрилья заново сомкнула строй, понял — Федора Власова, у которого это был первый вылет. Первый и последний!
Но и «мессершмитт» поплатился за это: не прекращая стрельбы, он сперва вдруг клюнул носом, потом отвесно, как сорвавшаяся с крючка рыба, нырнул куда-то под брюхо эскадрилье и там пропал. После, уже на аэродроме, один из стрелков-радистов божился, что видел, как «мессершмитт» дымил, но врезался ли он горящим в землю или ему все же удалось погасить пламя, точно сказать не мог.
Не видел этого и Рапохин. Взгляд его уже накрепко приковал второй истребитель. Огонь открывать он не спешил тоже, хотел, как и первый, ударить в упор, наверняка, даже шел словно бы по его дымному следу, только без крена. Рапохин успел подумать — и у этого не сорвется, злющий — и, глотнув слюну, с тоской глянул в сторону штурмана. Краешком глаза увидел: штурман сросся с пулеметом, плечи его, в серых лямках парашюта, мелко вздрагивали. Где-то там, в хвосте, бился в ознобе и пулемет стрелка-радиста. И снова — кусок неба, игривый луч на кабине флагмана, рой огненных, в конвульсиях, ос… А «мессершмитт» уже совсем рядом, сейчас, вот-вот, сию минуту, прошьет насквозь либо винтом изрубит на куски. Но не прошил. И не изрубил. Выпустив лишь короткую, тут же смятую встречным огнем, очередь, он вдруг, отфыркнувшись дымком мотора, круто, боевым разворотом, отвалил далеко в сторону. Вслед за ним, даже не попытавшись атаковать, отвалила и вторая, шедшая следом, пара.
Итак — больше не вышло.
Рапохин разжал онемевшие губы. Нижняя оказалась прикушенной.
Зарулив на стоянку, Рапохин из кабины вылез не сразу: не хотелось отстегивать привязные ремни, отключать шлемофон, протискиваться с парашютом через неудобный узкий люк. Откинувшись на бронеспинку, он зажмурил глаза. В кабине тоненько, на разные голоса, жужжали приборы, и это немножко успокаивало. Техник самолета несколько раз вопросительно задирал на него голову, но явно торопить не решался, ходил вокруг да около осторожно, едва ли не на цыпочках и точно побитый. Лишь когда к самолету подкатил бензозаправщик, он раза два напоминающе кашлянул. Рапохин встрепенулся, выбрался из кабины. Кто-то из мотористов тут же сунул ему в рот папироску, другой поднес зажженную спичку, третий услужливо снял парашют.
Время было завтракать, но в столовую он не пошел, направился прямо в землянку. И каково же было его удивление, когда, не дойдя до нее, на тропинке, что сворачивала к штабу, он снова увидел свою вчерашнюю знакомую — дочь командира дивизии. Она явно поджидала его, и Рапохин смутился, не зная, что сулит ему эта встреча. Во всяком случае, сейчас ее он с радостью бы избежал. Не до того. И, принудив себя улыбнуться, он хотел пройти мимо, но она удержала его:
— А вы не очень-то любезны, Алексей. Добрый день!
Вчерашний голос — такой же звонкий и чуточку нетерпеливый. Пришлось остановиться.
— Здравствуйте, рад вас видеть!
— Ну, судя по вашему виду, едва ли, — рассмеялась она, окинув его с головы до ног снисходительно-насмешливым взглядом.
Глаза у нее были вовсе не голубые, как ему показалось вчера, а удивительно синие и такие родниково-чистые, что хоть смотрись. И Рапохин, сам того не замечая, в упор глядел в эти глаза как в зеркало, даже не соображая, что надо что-нибудь ответить.
— Вы, верно, угорели вчера? Рано трубу закрыли?
Явная насмешка, намек на вчерашнее, а он опять ни слова, будто это не ему.
В синих глазах девушки вспыхнуло недоумение: стесняется либо в самом деле угорел. А может, из породы молчунов?
— Я ведь вас еще утром хотела видеть, — после недолгого молчания снова заговорила она, но уже сдержаннее, суше. — Мне думается, эта вещь принадлежит вам, — и протянула ему финский нож с наборной рукояткой в кожаных ножках. — Сегодня утром возле поленницы его нашел ординарец Прокопий Иванович и передал отцу. Смотрите, на нем инициалы — «А. Р.» Ваш?
— Мой, — признался Рапохин.
— Я так и думала. Тогда благодарите. Кстати, меня зовут Наташей. Благодарите же!
— Спасибо, Наташа!
— То-то. Ведь отец никак не хотел отдать его мне. Он большой любитель холодного оружия. И знаток. У него целая коллекция. Есть даже мачете, наваха и боевой индейский топор. Он и ваш нож хотел к ней приобщить. Еле выпросила. Заупрямился — и ни в какую. А нож у вас и в самом деле замечательный, — похвалила она.
— Не плохой, — вынув его из ножен, согласился Рапохин и вдруг, устремив на девушку изменившийся взор, только сейчас, с опозданием, сообразил, что ведь это не кто иной, как ее отец отказал сегодня эскадрилье в прикрытии, послал ее на задание одну-одинешеньку. Знал, что из «треугольника смерти» многие не возвращаются, а истребителей для сопровождения — хотя бы парочку — не дал. И вот двух экипажей как не бывало. А он, «его превосходительство», поди, и в ус не дует, знай себе холодное оружие коллекционирует. И от этой внезапной мысли Рапохин даже изменился в лице: оно у него вмиг посерело, приобрело какой-то землистый оттенок, стало еще более некрасивым.
В синих глазах девушки снова вспыхнуло изумление:
— Вам, видимо, и в самом деле нездоровится?
— Ерунда. Просто голова побаливает, — ответил он внешне спокойно, а про себя подумал с растущей обидой: «На гибель ведь послал, на смерть. Пары истребителей пожалел. Вот тебе и папаша. А она еще посмеивается, ей хоть бы что, — обожгла новая мысль. — Тоже, наверное, хороша». И вслед за обидой к летчику вдруг пришло еще и горькое, как полынь, чувство, что он только что, вот здесь, на этой самой тропинке, под этой вот высокой и стройной, но равнодушной, как осеннее небо, сосной потерял что-то, обманулся в чем-то дорогом и сокровенном, лишился веры в то, во что так хотелось верить. Перед ним стояла, участливо глядя на него, встревоженная миловидная девушка, а он видел в ней чуть ли не виновника всех бед в эскадрилье, едва ли не кровного врага своего. И боясь, что не сдержится, сейчас наговорит ей бог знает что, огромным усилием воли заставил себя принять равнодушный вид и спросил намеренно учтиво:
— Я вам больше не нужен?
Крутые и необычно длинные, почти до висков, брови девушки взметнулись кверху и тут же опустились вниз.
— Да, не нужны. Идите. — И, резко повернувшись, она первой зашагала прочь.
На тропинке, ведущей к штабу, от вчерашнего дождя остались лужи, и Рапохин видел, как она неуклюже перепрыгивала через них, хватаясь руками за ветки деревьев, чтоб не поскользнуться. Перед поворотом возле особенно большой лужи она все же не утерпела, обернулась, сложила ладони рупором и, уже без малейшей обиды в голосе, крикнула:
— Забыла спросить: как в землянке, тепло?
Рапохин помолчал, потом вдруг улыбнулся я шутливо откликнулся:
— Ташкент! Тропики!