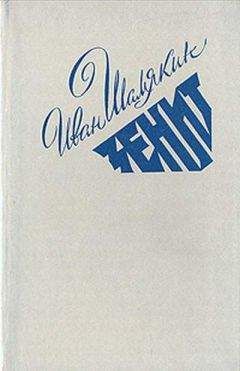— Но стали же мы союзниками Англии, Америки. Бастионы империализма, как нас учили, — а против фашизма пошли на союз с нами. Выходит, и с капиталистами можно договориться…
— Тут, брат, особая ситуация. Аппетиты Гитлера, его замах на Англию испугали даже злейшего врага социализма Черчилля. Ты мало читал, как он призывал к крестовому походу на Советы. И организовал интервенцию.
— Читал.
— Американцам тоже невыгодно, чтобы Гитлер сожрал всю Европу. Рузвельт реалист. Фордам и морганам легче иметь дело со многими странами… с большой Францией и маленьким Люксембургом, чем с одним диктатором, аппетиты которого разгорались. Через Кавказ Гитлер рвался в Индию. А до Африки дотянул свои кровавые лапы. В такой ситуации вступишь в союз и без хотения.
Иногда мне казалось, что парторг не особенно глубоко вникает в политику, газеты читает не так внимательно, как я. Скептически хмыкает, замечая, что я некоторые статьи конспектирую, Ильи Эренбурга, например. Но чаще Колбенко удивлял знанием истории, работ Маркса, Ленина (на Сталина ссылался редко, что меня смущало) и знанием того, что называется бегущей политикой. О каждой большой операции Красной Армии мог без подготовки прочесть лекцию. Через несколько дней после высадки союзников во Франции, когда сообщения в газетах и по радио были еще скупы, Константин Афанасьевич в столовой выдал такие сведения о месте высадки — Бретани, так сыпанул названиями городов французских, словно украинских, что даже эрудит Шаховский ни в чем его не поправил. Кузаев и Тужников слушали серьезно. А Зубров ехидно пошутил:
«Колбенко, вы при чьем штабе были — Эйзенхауэра или Монтгомери?»
Но на предложение Тужникова подготовить лекцию о втором фронте Колбенко ответил:
«Спроси в политотделе, нужно ли нам прославлять фронт, открытый союзниками с опозданием на три года?»
— Бойцы, особенно девушки и «деды», часто спрашивают: будет ли война последней?
— И ты отвечаешь, что установится мир и наступит вселенское примирение? И мы с тобой будем целоваться с Черчиллем, как на пасху?
— Так я не отвечаю. Но стоит ли лишать веры в мир? Жить не захочется…
— Это правда: счастлив, кто верит.
У меня вырвался чуть ли не крик отчаянья:
— А что отвечать, Константин Афанасьевич!
— Ты правильно отвечаешь, Павел. Сердцем и я верю, жажду… У меня же дети. Разум вот у меня противный. Скептик я. Не романтик, как ты. Выбили из меня романтику, как пыль из мучного мешка.
Спросить, кто выбил, я не осмелился.
Бетховен, Бах, Чайковский… Никогда классическая музыка так не волновала. Я просто не понимал ее раньше. Начал понимать? Очень возможно, что человек, постепенно или внезапно, светлеет разумом или приобретает такие душевные качества, с которыми приходит осмысление главных ценностей жизни. Или, может, для понимания некоторых из них, той же музыки, нужны определенные условия, определенный настрой? Осенний поздний вечер, дождь барабанит в стекла. Сосны шумят за окном. А в комнате тишина. Книги в шкафу. Музыка из репродукторов. Мысли о близком мире, о новой жизни. Мысли еще тревожные. И все же главное, пожалуй, в них — уверенность, что «со мной ничего не случится». Три года не было ее, уверенности. Нет, просто давно не думал ни про смерть — к войне привыкаешь, ни тем более про такую вот тишину — с музыкой. Тишина с музыкой. Странное ощущение! Может, действительно прав Тужников: расслабились мы, уверенные, что не завоет сирена боевой тревоги, не упадут бомбы, не поранят землю, не убьют людей, не порвут небо разрывы снарядов.
Такая волшебная музыка вынуждает к молчанию, хотя вообще-то хочется поговорить, порассуждать.
«Тянет тебя на философию, Павел», — еще как-то раньше пошутил Колбенко. В последние дни я многих склонял «пофилософствовать» — как бы собирал ответы на вопрос: что люди думают о будущем?
Порадовал Кузаев. Его мысль: война всех научила и коллективный разум человечества возвысился до новой, высшей, ступени, это не может не влиять на поиск разумных взаимоотношений народов, стран, людей.
Шаховский сказал категорично:
«Мир мало изменится, но мы с вами, мой юный друг, убивать подобных себе больше не будем».
«Ты рано демобилизуешься», — упрекнул Тужников.
А Данилов помрачнел: «Боюсь я ее, новой жизни. Она представляется мне цыганским счастьем. А ты знаешь, какое оно, цыганское счастье? Всегда — за горой, за лесом. И в тумане».
Постучали в дверь. Что за поздний гость?
— Кто там?
— Сержант Игнатьева.
Колбенко, раздетый до исподнего, грел у грубки больные ноги. Нырнул под одеяло.
— Заходи, заходи, Женя.
Обрадовал меня ее приход. Женя любит музыку и понимает ее. Вот с кем можно «пофилософствовать».
— Товарищ старший лейтенант…
— Не козыряй. Я без штанов.
— Вас, товарищ младший лейтенант, просит позвонить старший сержант Масловский.
— Что припекло посреди ночи? — буркнул Колбенко.
— Не могу знать.
Я обул сапоги, накинул плащ-палатку: до штабного здания двадцать шагов, но сечет дождь. Вышли в темноту.
— Где дневальный, что вы за посыльную?
— Мне не спится, и я сидела в телефонной.
— О чем вы думаете, когда не спится?
— А вы почему не спали?
— Приводили к ладу искалеченный мир.
— Привели?
— Вы думаете, это просто?
— О, если бы я так думала — мне спалось бы.
Еще одна изболевшая душа!
Виктор ждал у телефона. Сам взял трубку.
— Слушай, я прошу: приди сейчас на батарею.
— Что случилось?
— Не телефонный разговор.
— Уверяю тебя: финны не подслушивают. Зачем им теперь наши секреты!
— Мне не до шуток.
— Ты меня пугаешь.
— Не бойся. Тревоги не поднимай.
— Пароль?
Сообщать пароль по телефону запрещалось.
— Я встречу тебя.
Пока я ходил на командный пункт, Колбенко уснул, и я почти порадовался: не будет отец волноваться за мой ночной поход на батарею.
Намотал портянки, обулся, надел шинель. Много воспалений легких. Когда воевали вблизи Северного полюса, не помню, чтобы кто-нибудь лежал с такой банальной штатской болезнью. Никакая холера не брала, никто не портился — как в холодильнике. Пахрицина объясняет болезнь наличием вируса, возможно подброшенного финнами. Версия у большинства офицеров вызвала улыбку. Кузаев запретил давать такое разъяснение рядовому составу. А у Тужникова своя теория: психологически расслабился народ, потому и болеют.
Днем я наведывался на батарею. Данилов ходил с температурой. На мои уговоры обратиться к врачу комбат разозлился: «Я лучше профессора умею лечить себя. Цыганскими средствами». Может, из-за его болезни вызывает меня Масловский? Но почему меня? Нашел лекаря!
Виктор встретил на полдороге: посигналил фонариком. Сошлись. Почему-то по его плащ-палатке слишком шумно барабанил дождь — как по жести.
— Что у тебя горит в такой дождь?
— Они хотели стреляться. — Кто?
— Князь и цыган.
— Ты что, ошалел?
— Я? Они ошалели.
— Из-за чего?
— Из-за бабы, естественно.
— Из-за Лики?
— Я от такого искушения давно бы избавился. Лика ваша — многолика. Тебе не хочется подстрелить кого-нибудь из-за нее?
— Не городи ерунды! И не изображай себя святым. Передо мной. Рассказывай, что произошло.
— Думаешь, я много знаю. Меня подняла дневальная Роза Бейлина. Я спал. Бабы — как шпионки, их хлебом не корми, а дай послушать, о чем говорят командиры. Твоя любимица Балашова все секреты выведывает. Когда в бараках жили, она буквально мучилась — там под дверью не станешь. А в землянке — стань у трубы, с искрами слова летят…
— Слушай! Ты сам похож на бабу. Что ты начинаешь с горшков? Что услышала твоя Роза?
— Думаешь, можно было понять, что она услышала? Она вытянула меня сонного из землянки на дождь. За шиворот тащила. Хорошо, я спал в штанах…
— Ты что, издеваешься надо мной?
— Какое, к черту, издевательство! Девчонку трясло. «Ой-ой, командира спасайте! Они стреляются!» Я сразу догадался, кто это они. Натянул сапоги и в нижней рубашке — в комбатову землянку. Они стояли друг перед другом, держась за кобуры. Петухи, да и только. Но не красные, а белые… побледневшие. Ты же знаешь, Данилов в гневе всегда белеет, меня его бледность не однажды пугала. Смуглое лицо делается пепельным. Я потребовал у них пистолеты. Ох, такого его бешенства никто еще не видел! Он не закричал — прошептал, но как прошептал! Ты услышал бы! Закомандовал мне: «Кру-гом!» Да меня не испугаешь. Я пригрозил, что подниму батарею по тревоге и вызову командира дивизиона. Стал между ними. И Шаховский молча покинул землянку. А цыган выхватил пистолет и хотел броситься за ним. Но я заслонил двери. Он тыкал мне дулом в зубы. Губу рассек, идиот… Мог застрелить, как думаешь?