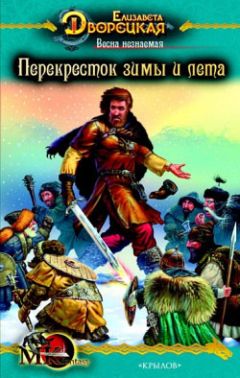— Вот тогда и посчитаем, сколько нас. Тогда и прикинем, что делать дальше.
— Дак говоришь, целый отряд будет?
— Не меньше.
— Ну что ж, тогда и я тебе открою новость, раз такое дело. Я тут, пока ты ходил, свой партизанский отряд нашёл.
— Неужто?
— Вскорости сведу тебя с командиром, — Зазыба подумал, прошёлся по комнате от одного порога до другого. — Ну, а пока что к чему, надо готовить вашу с Ганной свадьбу. Почему бы и не сыграть её? Хорошо ты придумал, чтобы собрать всех!
— Это не только моё желание. Все на том сошлись.
— Тем лучше. Отсюда можно будет сразу же и в отряд пойти. Тут недалеко. Надо опередить немцев, пока они свою перепись не начали. Видно, облавы тоже будут устраивать.
— Откуда вам известно?
— Да был тут у нас один человек. Бывший Масеев приятель. Теперь работает в Минске, в городской управе. Дак вот и выдал он нам это намерение. Ну, а о том, что немцы прут от Москвы? Об этом наши знают?
— Приблизительно.
— Беда. Все мы теперь знаем только приблизительно, — вздохнул Зазыба. — Но как хорошо, что нашлось вдруг большое пополнение отряду!
— Андрей Марухин поглядел на Зазыбу, немного помолчал.
— Понимаете, Денис Евменович, — решился он наконец, — с этим у нас может и не получиться. Отряд там уже сложился, даром что все ещё по деревням живут. Но в лесу, в семи километрах от Трусака, уже выкопаны землянки.
— И кто у них за командира?
— Сдаётся, будет капитан Скандилов. А комиссаром они наметили Субботина.
— Ну что ж, — сказал Зазыба, — значит, будет два отряда. Но это не здесь решать. И не сегодня. Время покажет, как все сложится. Так что будем оповещать о свадьбе, чтобы и веремейковцы знали?
— Надо.
— А невеста-то согласна?
— Просила звать вас в посажёные отцы.
* * *
Если бы человек мог жить без людей, то превратился, наверно, в волка. Это присловье Зазыба слышал давно, не в детстве ли ещё от деда Михалки. Но потом, уже повзрослев, когда немало пожил да повидал чего на свете, понял раз и навсегда, что и волк от тоски воет.
Возвращаясь из Шурища от партизан, которые с энтузиазмом, если так можно сказать, встретили затею со свадьбой в Веремейках, Денис Евменович и услышал волка. Тот выл где-то за деревенским озером, не дальше. Но в голосе зверя не слышалось напористости, как это бывает всегда зимой, при первом морозе; волчий голос звучал почему-то жалобно и немощно, совсем как недавно у собаки Парфена Вершкова. Однако Зазыба знал — об этом сказал ему Масей, когда ходил давеча на кладбище, — что Парфёнов пёс подох под соснами на ещё не заснеженном холмике, где покоился его хозяин, проявив таким образом нечто большее, чем инстинктивную преданность. Поэтому сейчас не было ничего странного в том, что Зазыба, слушая недальний волчий вой, подумал в первую очередь о своём старом знакомце, о том волке, который словно поджидал его в начале нынешней осени у дороги из Бабиновичей в Мамоновку. Говорят, волки не плачут. Однако тогда Зазыба все-таки видел волчьи слезы… Признаться, за время, прошедшее с того дня, Зазыба редко вспоминал волка. Может, раз или два, и совсем недавно, когда выбирал в лесу место для партизанской землянки.
Теперь волчий голос недобро откликнулся в нем, будто Дениса Евменовича осенило, что поблизости может оказаться и ещё зверь, а может быть, даже целая стая, потому что уже настали филипповки, и тогда от волчьего воя дрогнет не только сирая душа, но и все безлесное Забеседье. Проходила минута, другая… Все вокруг молчало… И все-таки Зазыба чувствовал что-то коварное в этой тишине. Он подумал, что раньше это его не заставило бы озираться да прислушиваться… Теперь получалось наоборот. Пускай невольно, однако ухо ловило каждый звук, каждый шорох.
Надо было двигаться дальше, заглушая лесные звуки, и Денис Евменович, силясь угадать узкую тропинку в темноте, старался ставить след в след свои отяжелевшие ноги. Это было не просто, все время приходилось держаться в напряжении, но он шагал и ни разу не позволил себе сбиться, чтобы не проторить к партизанской землянке предательской дороги.
От филипповок не много уж времени оставалось до Нового года. По новому стилю филипповки вообще через новогоднюю ночь заходили ещё и на следующую неделю, тянулись чуть ли не до самого сочельника. И тут Зазыба нечаянно подумал совсем о другом. «Интересно, — сказал он сам себе, — не примутся ли немцы восстанавливать у нас и старый календарный стиль? Восстанавливают же они старые порядки? — Ему при этом даже в голову не пришло, что сами немцы давным-давно живут по новому стилю, поэтому им нет никакой надобности что-то менять здесь; он все-таки решил именно так, как и полагалось по его убеждениям, решил со злорадством: — Нет, теперь фашистам не до этого!» Сегодня в землянке партизаны ему показали «Известия» за тринадцатое декабря, которые где-то раздобыл Павел Черногузов и благодаря которым уже не оставалось сомнений, что Красная Армия добилась под Москвой великого успеха. В газете было сообщение Советского Верховного Главнокомандования о первых результатах контрнаступления, под ним портреты военачальников — командующего Западным фронтом генерала армии Жукова и командующих армиями генералов Рокоссовского, Конева; фамилии других генералов, портреты которых были помещены рядом, Зазыба, кажется, встречал впервые.
Обсудив ещё раз сообщение «Известий», партизаны Нарчука одобрили замысел Марухина и Зазыбы собрать на свадьбе в Веремейках так называемых примаков из окольных деревень. Сперва Зазыбе показалось, что энтузиазм их не совсем серьёзен; в землянке воцарилось весёлое оживление, кое-кто даже попытался шутить, ведь в таком деле, как женитьба на соломенной вдове, всегда находится причина для шуток; однако после Зазыбы сразу заговорил Степан Баранов, и тогда все партизаны вместе с комиссаром стали прикидывать наперёд да размышлять, что из этого дела и вправду может получиться, пока не было принято решение — если и не удастся залучить кого-нибудь из примаков в отряд (а Зазыба предупредил, что те фактически вскоре создают свой отряд), то сговориться с ними о предстоящих действиях да организовать в Веремейках что-то вроде митинга; во всяком случае, события на фронте, и в частности, под Москвой, давали для этого наилучшую возможность. Правда, не все деревни, в которых окопались теперь окруженцы и бывшие военнопленные, были расположены неподалёку от Веремеек, поэтому опасались, как бы подобное обстоятельство не стало помехой для сбора; но поскольку даже до самого дальнего посёлка считалось не больше тридцати километров, то есть не такая уж длинная дорога, как сказал командир отряда, — все будет зависеть в первую очередь от желания.
Понятно, что отвечал за все в Веремейках — и за сбор, и за угощение, и за безопасность — на весь срок Зазыба, об этом партизаны сегодня его и просили; Денису Евменовичу было это не в новинку, сидя в землянке он вспомнил, как в начале осени в Гонче они сговаривались с Касьяном Манько о митинге, посвящённом Октябрю; тогда они вообще много что обговорили с секретарём подпольного райкома, без чего не мыслилась не только борьба с иноземцами, но и просто жизнь людей в условиях вражеской оккупации; сказать правду, беседа эта была некоторое время для Зазыбы линией жизни, поведения, считай, до самых последних дней, когда встретились они в местечке с Абабуркой и связались с отрядом Нарчука; именно с этой беседы начались все душевные муки и испытания, которые довелось Зазыбе выдержать в одиночку, без чьей-либо помощи; и нечего сомневаться, что без этой беседы с Касьяном Манько и взгляд на события, происходившие на оккупированной территории, был бы у Зазыбы совсем иным.
Между тем некоторые проблемы, волнующие тогда секретаря подпольного райкома, а вместе с ним, конечно, и Зазыбу, не то что потеряли смысл в дальнейшем — этого сказать нельзя, — но сделались как бы не обязательными, просто без них можно было обойтись, хотя сам Денис Евменович в душе от них не отступался, думал о них по-прежнему так, как и тогда, может быть, только за малым исключением. Поэтому он не мог не видеть, не мог не понимать, что в эти мучительные и глухие месяцы оккупационного режима все, в том числе и человеческое существование, словно бы упростилось, вошло в такую колею, которая, с одной стороны вырабатывала привычку, а с другой — направляла жизнь.
Зазыба не хотел ни с кем говорить об этом, он вообще считал, что все наконец стало налаживаться, однако порой очень жалел, что именно теперь нет рядом Касьяна Манько с его прямолинейными мыслями и с неброской совестливостью да честностью. Смешно сказать, но ни с Митрофаном Нарчуком, ни со Степаном Барановым за все это время, что был связан с ними и выполнял разные поручения и даже задания, Денис Евменович не решался обсуждать те вопросы, которые заинтересованно, по-хозяйски обсуждал с Касьяном Манько; ему ни разу не захотелось завести такую беседу, как тогда в бане. В отличие от командира отряда и комиссара, секретарь подпольного райкома рассуждал обо всем так, как будто не только собирался, как и они, сражаться с врагами, но совершенно спокойно готовился жить и работать в Крутогорье после победы…