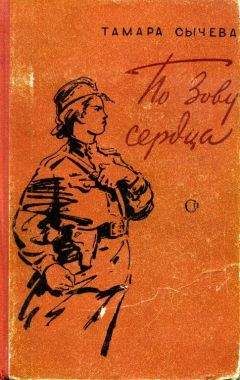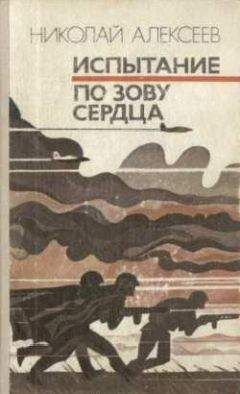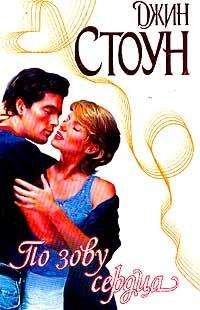…2 мая радио принесло долгожданную весть — пал Берлин, столица фашистской Германии.
Приближался час полной победы над врагом.
И вот наконец наступило это незабываемое утро. Подъезжая к небольшому городу под Прагой, мы еще издали увидели тысячи разноцветных ракет, взлетавших над городом. На улицах чехи обступили наши машины, целовали бойцов.
— Конец войне! — проносилось эхом по площади.
— Конец войне! Победа! — кричали бойцы.
Цветы, смех, слезы радости, поздравления. Все словно помолодели, похорошели.
В это утро особенно чувствовалось, как долго люди ждали счастливого часа, когда можно сказать:
— Конец войне!
Я оглянулась вокруг. Наши бойцы обнимались, целовались, подбегали к своим командирам и с криками: «Качать!» — подбрасывали их в воздух. Мои бойцы крепко жали мне руки и поздравляли с победой. Подъехала машина командира дивизиона майора Трощилова. Его обступили. К майору подходили офицеры и целовались. Я стояла в стороне и наблюдала. Трощилов увидел меня и пошел навстречу.
— Давайте поцелуемся, лейтенант, — сказал он. — Я вам жизнью обязан и хочу вас поблагодарить. — И он на глазах у всех поцеловал меня два раза. Я покраснела, но никто не обратил на нас внимания.
Через два дня мы были снова в походе. Нас посылали на уничтожение гитлеровских группировок, которые еще продолжали сопротивляться и с боями уходили на запад. Один плененный нами немецкий офицер на вопрос: «Какой смысл вам теперь обороняться?» — ответил: «Мы хотим добраться до американцев, там у нас найдутся покровители».
Восемь дней мы еще уничтожали остатки гитлеровцев на чехословацкой земле. Покончив с ними, вернулись в город под Прагой, в котором праздновали победу.
Воцарилась тишина. Первое время не верилось, что эту тишину не нарушат больше разрывы бомб, гул орудий и скрежет танков.
Меня вместе с другими офицерами направили отдыхать в санаторий на озере Балатон.
Там я неожиданно встретила Аню Балашову. На груди ее блестели орден Отечественной войны и орден Славы. Она часто с тоской и грустью заговаривала о сержанте Николае Кучерявом. Видно было, как тяжело она переживает его гибель, не может его забыть.
В эти спокойные, счастливые дни с особенной болью в сердце мы вспоминали погибших товарищей, которые не дожили до победы.
С новой партией отдыхающих в санаторий приехал майор Трощилов.
В этот вечер мне захотелось красиво одеться. Вынула купленные недавно туфли, нарядное платье, надела и долго стояла перед зеркалом, не решаясь выйти в таком виде. Не знала, куда деть руки, смущали высокие каблуки изящных туфелек.
Решившись, я наконец вошла в зал, где уже звучала музыка. Казалось, что я иду строевым шагом и так неуклюже, что все обращают на меня внимание. Лицо горело от смущения. Подошел майор Трощилов, пригласил танцевать.
В этот вечер я много смеялась и шутила. Улыбаясь, майор наклонился ко мне и тихо сказал:
— Платье это вам больше идет, чем военная форма.
Мы долго веселились. Потом майор предложил:
— Давайте выйдем.
От главного трехэтажного корпуса санатория начинался густой старый парк с вековыми деревьями. Его широкие, усыпанные желтым песком аллеи вели к берегу огромного озера Балатон.
Мы не заметили, как очутились на обрывистом берегу. Молча прошли по длинному причалу, выступающему далеко в озеро. У него останавливались маленькие речные пароходы.
— Какая непривычная тишина! — сказала я, оглядываясь на темную полосу парка, из-за которого белело здание санатория. Балкон освещенного зала был открыт, и оттуда вырывались на простор звуки музыки, молодые веселые голоса, смех, шутки.
Трощилов, облокотившись на перила пристани, молчал. Потом, порывисто обернувшись ко мне, сказал:
— Жизнь! Как прекрасна она, Тамара. Не верится, что кончилась война, это ужасное человекоубийство!.. Жизнь начинается снова. Мы вернемся домой, а сколько не вернется! А иным и возвращаться не к кому. — И, помолчав, он с тоской добавил: — У меня не стало отца, замучили…
— Фашисты?
— Нет. Предатели. Кулаки. Он их раскулачивал в тысяча девятьсот двадцать девятом году. А во время войны они вернулись и отомстили.
Мне стало очень жаль майора. Хотелось подбодрить его, но я не знала, как это сделать.
— Да, — сказала я, взяв обеими руками большую руку майора, дружески пожала ее, — много мы потеряли, но раз уж остались живы, давайте думать о будущем!
Книга третья
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА
…Ожесточенный бой. Фашистские танки мчатся на мою батарею, лязгают гусеницы. Танки приближаются и обдают меня жаром, мне душно, я задыхаюсь…
Подняла отяжелевшие от тревожного сна веки и в первую минуту не могла понять, где нахожусь. Удивила мягкая постель, уютная обстановка и тишина.
«В санатории, на озере Балатон», — мелькнуло в голове. Вспомнился вчерашний вечер, танцы, прогулка к озеру с майором Трощиловым.
Я облегченно вздохнула: как хорошо, что все это — сон: и танки, и лязг гусениц, и грохот разрывающихся снарядов. Все позади…
Через распахнутое окно в комнату врывались яркие солнечные лучи. Осветив полированную поверхность тумбочки, они мягко легли на пушистый стенной ковер над кроватью и наконец подкрались к моему лицу. Я подставила им протянутые ладони, зажмурилась. Казалось, ласковые лучи согревают огрубевшее за годы войны сердце.
«Осталась жива! — пронзила торжествующая мысль. — Прошла через столько смертей и осталась жива!»
Вернусь домой и теперь всегда буду спать на такой вот мягкой постели. И спать будем нормально, и работать, как раньше, до войны.
А работы дома непочатый край! И перед глазами встали лежащие в развалинах города, которые мы оставляли за собой, двигаясь на запад, опустевшие поля, села…
— Ну что ж, — сказала я, — будем строить заново.
Приподнявшись, откинула занавеску и выглянула в сад.
В лицо пахнуло прохладой, свежестью. Только громкое щебетание птиц нарушало утреннюю тишину.
Ах, вон они, те ласточки, под крышей соседнего корпуса, которыми я вчера любовалась. Они тоже заново строят жизнь. Наверное, война разрушила и их гнезда.
Вот так придется и мне все заново строить, и, наверное, без Гриши. Воспоминания о муже взволновали, тоска сдавила грудь. Хотелось его оправдать, пыталась поставить себя на его место: «А не поступила бы и я так же, как он? Ведь я тоже люблю жизнь, ведь рада, что осталась жива, и он также ради жизни шел на все», — но дальше все оправдания обрывались.
«Все он делал только ради себя. Спасался. Цеплялся за жизнь, не думал больше ни о чем. Строил фашистам мосты, дороги, а дети, а их будущее было ему безразлично. Он любил жизнь, — усмехнулась я. — А кто ее не любил?»
Перед глазами всплыли темные фронтовые холодные и дождливые, метельные ночи и образы боевых товарищей, которых теперь уже нет.
…В бою за деревню Вороновку, где лежал на теплой печи мой Гриша, умер молодой боец — поэт Бериков. На берегу Тиссы погиб сибиряк сержант Грешилов… В боях за город Банска Быстрица отдал жизнь доброволец-наводчик Осипчук. На реке Молдова в Румынии во имя победы бросился на мины комсомолец Николай Кучерявый.
Они тоже любили жизнь, но они готовы были отдать ее, если нужно.
А Гриша… Нарушил присягу, предал!
Стало душно. Вытерла вспотевший лоб. Вскочила с кровати и подбежала к крану. Холодная вода освежила.
Скорее к друзьям!
В пустом вестибюле вздрогнула и пригнулась, как от летящей мины, когда с шипением начали звонить огромные столовые часы. На веранде столкнулась с дежурной медсестрой.
— Сычева, что так рано поднялись? Что с вами? — удивилась она, всматриваясь в мое лицо.
— Ничего, — смутилась я, приглаживая взъерошенный чуб. — Утро хорошее, захотелось погулять. Да все, кажется, еще спят, не с кем и поговорить.
— А вон майор из вашей части тоже чуть свет поднялся, — кивнула сестра в сторону берега.
Сквозь кудрявую зелень кустов я увидела широкую спину майора Трощилова.
«Петя!» — впервые про себя назвала я его по имени. Да, этот не просил у фашистов жизни, а завоевал ее. Всю войну на передовой. В сорок первом году по лесам и болотам, раненый, выползал к своим из окружения… Этот на колени не стал бы. И о женщинах в серой шинели никогда бы не сказал так, как Гриша.
По широкой тенистой аллее спустилась вниз, к берегу. Хотела, незаметно подкравшись, закрыть майору глаза, но, зная его строгость, не решилась.
Позабыв, что я в летнем цветном платье, подошла и вытянулась перед ним по уставу. Трощилов рассеянно поднял на меня большие, чуть выпуклые карие глаза: