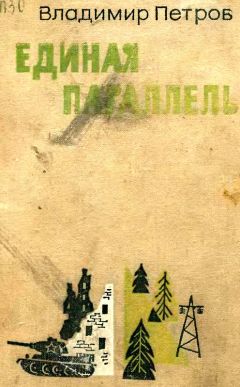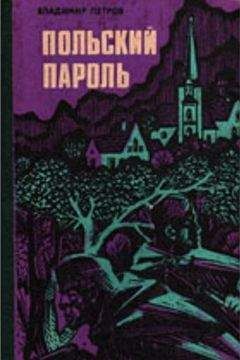В последние дни старик явно заискивал перед Павлом, по стесняясь, почем зря ругал нацистов. Может, в предвидении перемен чутьем понимал, кто такой Слетко на самом деле, а скорее, хитрый скряга пытался забронировать себе «свидетеля из народа», чтобы потом, при надобности, сослаться: «Вот какие смелые суждение имел я в период оккупации».
Профессор никогда не здоровался, только кивал бородой в знак приветствия.
— Ты знаешь, хлопче, я обнаружил нынче поразительную вещь! Оказывается, есть прямая связь между Кантом и нацистской программой. Да, да, самая непосредственная! Кантовский «категорический императив» — это и есть главный пункт программы НСДАП: «ответственность только перед самим собой». Понимаешь?
Слетко, морщась, пожевал недозрелую ягоду, найденную в малиннике (и то удача: тут целыми днями пасутся соседские ребятишки!). Равнодушно буркнул:
— Чхать мне на вашего Канта…
Вот так было каждое утро: прежде чем перейти к базарным новостям, профессор плел всякую философскую дребедень. Приходилось выслушивать.
— Жебрак ты, хлопец! Дремучая деревня. Да ведь во всем этом и кроется философское оправдание фашистского бесчинства! Он, немец, ни перед кем не отвечает, он, мерзавец, творит зверства, измывается над бедным украинским народом. Тебя тогда не было в Харькове, а я видел собственными глазами: осенью сорок первого года в первый день оккупации немцы повесили на балконах свыше ста харьковчан! Вся Сумская была в этих страшных гирляндах…
Слетко уже не один раз слыхал об этом: старик возвращался к кровавому факту с исступленной настойчивостью, словно подстегиваемый неспокойной совестью.
— Их свои выдали, пан профессор. Вы же знаете.
Профессор сразу насупился, рассерженно вздернул бороду:
— Не знаю! Ничего не знаю! И никто этого не знает — одна досужая болтовня. И потом не об этом идет речь: я говорю о жестокости немцев. Жестокости, которая базируется на теории «кенигсбергского затворника». Кстати, на его же «принципе высшего долга» Адольф Гитлер соорудил свою догму фюрерства. Отвратительная, гнусная демагогия!
Павло осуждающе кашлянул, оглядываясь по сторонам:
— Вы насчет фюрера полегче, пан профессор. А то ведь недолго загреметь в гестапо…
— Я борец! — Профессор вскинул толстую суковатую палку. — Я сын своего народа, и мне не страшны репрессии. Если понадобится, я, не задумываясь, отдам свою жизнь за святое дело.
Старик картинно ткнул палкой в свою грудь, в распахнутый ворот засаленной рубашки.
«Да уж ты отдашь… Как же, — ехидно подумал Павло. — Небось весной, когда пришли наши, сидел тихо, как крот, в своем буржуйском доме. Даже сад вылазил вскапывать по ночам».
— Была бы жизнь, а отдавать ее — это не задача, — меланхолично заметил Павло. — Какая тут жизнь — жрать совсем нечего…
— Да, необходимость… — печально вздохнул профессор. — Это тоже железная философская категория. Простой народ вынужден в силу необходимости даже работать на немцев, вот как ты. Ради того, чтобы выжить.
«Черт его знает, старого трепача… — размышлял Павло, хмуро поглядывая на профессорские яблоки. — Вроде бы все говорит правильно, складно и красиво. А вот ужился ведь „борец“ при немцах, крепко угнездился в своем добротном четырехкомнатном доме. Не тронули ни его, ни старуху. И наши весной тоже не побеспокоили, наверно учитывая научные заслуги. Вот так и переживет все передряги в своем саду под „кармазинками“ и штрефелями».
— Мы что, мы — работяги, — сказал Павло, потирая заскорузлые ладони. — Пока сила есть в руках, на обеденную похлебку заработаем. А вот вы как держитесь, пап профессор? Небось вовсе трудно?
Павло подталкивал его поскорее к базарной теме — надоело слушать белиберду, да и пора было собираться на работу в железнодорожные мастерские (после ночной бомбежки сегодня наверняка будет авральный день). К тому же стоило лишний раз подковырнуть старого барыгу. Слетко было известно, как иногда темными ночами шныряли в профессорскую калитку подозрительномордатые субъекты, спецы по антикварным штучкам.
— Трудно, мой друг, ох как трудно… — пожаловался профессор. — Опостылела базарная жизнь. Вчера вынужден был продать свой любимый настольный прибор. Чистосортный уральский малахит. Но надо мужаться — скоро придет день освобождения.
— Неужели это правда?
— Правда, хлопче, истинная правда: сам лично читал листовку, сброшенную с советского самолета. Это три дня назад, когда бомбили Основу. Помнишь, тогда еще сбили два бомбардировщика? Так вот говорят, что трех пилотов, прыгнувших у Циркунов с парашютами, немцы взяли в плен ранеными. Они сейчас в госпитале, который на улице Карла Маркса.
«Надо учесть, — подумал Слетко, — И выйти кому-нибудь на медперсонал. Возможно, удастся устроить летчикам побег, как уже сделали с одним раненым офицером-истребителем».
— Да, всякое болтают… Вон говорят, что будто бы немцы собираются минировать город?
— Не знаю, про город не слыхал, врать не буду. А вот заводские окраины минируют — это точно.
Ну об этом и у Слетко были абсолютно достоверные сведения. Самое убедительное подтверждение тому, что немцы в ближайшем будущем собираются оборонять город. Да и прибывающие ежедневно новые воинские части тоже посылают сюда не для прогулки.
Прощаясь, профессор несказанно удивил Павла, подарив ему сорванное собственной рукой яблоко.
— Мы все сыны одной матери — Украины, — высокопарно сказал профессор, вручая яблоко. — И и трудную минуту должны держаться вместе, помогать друг другу.
Слова насчет «трудной минуты» развеселили Слетко — значит, и впрямь дело идет к развязке, если начинает скулить такая ушлая скряга, как «пан профессор Несвитенко».
Яблоко Павло помыл и тщательно вырезал подгнивший бок («пан профессор» все-таки остался верным себе!) и потом всю дорогу до самых мастерских смаковал и сосал яблочные дольки.
В проходной его привычно — с головы до ног — обшарил дежурный полицай, легонько толкнул в спину: «Валяй вкалывай, ивановская шпана!» По двору метались взмокшие бригадиры — немецкие специалисты-железнодорожники из фашистского трудового фронта, накалывали на спины приходящим рабочим ежедневные регистрационные номера — по этим номерам в обед выдавали и свекольную похлебку. «Шнеллер! Шнеллер!» — гнали, торопили на погрузку.
День начинался безоблачный, душный, накрытый колпаком белесого августовского неба. Над городом слоилось утреннее марево, в котором расплывались, переламывались, причудливо кривились и без того уродливые очертания развалин. В пыльных лопухах вдоль железнодорожного полотна копошились воробьи, взъерошенные, измазанные в мазуте.
Слетко толкнул в бок Миколу Зайченко, своего связного по подпольной группе, угрюмого, вечно заспанного парня. Микола понял, повернувшись, протянул «сороковку» — недокуренный махорочный бычок. Несмотря на табачный голод в городе, Зайченко всегда был при махре — у него даже полицаи стреляли на закрутку.
— Ну как там ваша Москалевка? — затягиваясь, спросил Павло.
— Помаленьку дрыгает, — буркнул Микола, потом помедлив, вполголоса добавил: — Позавчера под Золочевом немцы захватили советскую разведгруппу. Двое живых. Доставлены в гестаповскую фельдкомендатуру.
— А почему не в зондеркоманду СД?
— Черт их знает. Филипп тоже не в курсе дела.
Филипп — словацкий офицер, майор из особого батальона «культурного обслуживания фронтовиков». На него существовал сложный многоступенчатый выход, поэтому от всяких уточнений приходилось воздерживаться.
— Ладно. Что еще?
— Вчера из Киева прибыли два специальных инженерных батальона. Размещены в казармах на Холодной горе. Среди них есть рота электротехнического минирования. Ты понимаешь, в чем дело?
— Да уж не дурак, понимаю…
Слетко с трудом перевел дыхание, чувствуя, как рубашка прилипла к спине. Это было то самое известие, которое все они напряженно ожидали последние дни. Известие, означавшее начало опасного, очень важного дела, ради которого Павло Слетко и его товарищи остались в оккупированном Харькове, каждодневно в течение четырех месяцев рискуя жизнью. Поставленное перед ними задание приобретало наконец реальный смысл.
Немцы собирались минировать Харьков.
В полдень 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов прорвали глубоко эшелонированную немецкую оборону северо-западнее Белгорода — на стыке четвертой танковой армии Гота и оперативной группы генерала Кемпфа. Как и в недавнем неудавшемся наступлении, обе фашистские группировки снова были разъединены, лишены взаимодействия, потому что советское командование немедленно бросило в прорыв две танковые армии: полторы тысячи танков и САУ стальной лавиной устремились на Степное, а затем на Золочев и Богодухов. Многополосная немецкая оборона трещала и свертывалась, как жесть, разрезаемая острыми кузнечными ножницами.