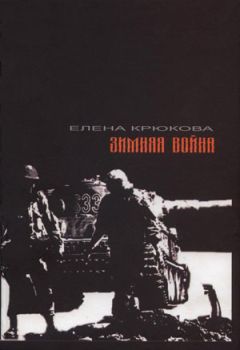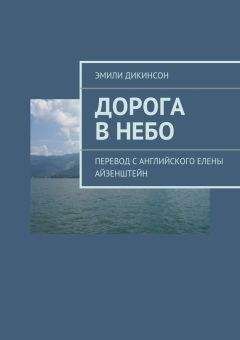Ионафан в келье надел на шею мешочек с Сапфиром, как ладанку.
Не бойтесь. Цесаревна получит свое наследье в целости и сохранности. А Воспителле скажите…
В машине черные сидят, ждут.
Голуби клюют хлеб, что бросает, малыми кусочками, на снег седая русская нищенка.
Служба идет, и тепло и ярко горят свечи живым золотом, бездна свечей обнимает тьму храма, водит хороводы, уходит вдаль, истаивает в кромешном мраке, наползающем из углов, с купола, с зимнего неба.
Выйдем на воздух, господа. Выйдем на крыльцо, на паперть — вдохнуть свежий вечер, звезды, снег.
Ионафан, в светящейся, как жерло золотого вулкана, тяжелой, негнущейся ризе вышел вон из храмовых дверей. За ним вывалились Лех, капитан, Исупов. Парижские зимние сумерки такие же синие, лиловые, малиновые, как и армагеддонские. Есть вечерняя молитва. Только никто из нас ее не знает. Не помнит.
Выстрел грохнул, как удар золотых тарелок в оркестре. Ионафан упал на каменные плиты, обливаясь кровью. Черные выскочили из машины. Эй ты, скорее! Давид видел в храмовое окно, через решетку — он надевал себе на шею кисет. Клянусь, камень там. Он у него на груди, под панагией. Не копайтесь!
Над телом Ионафана, предавшего черных, черные наклонились, сгрудились, копошились, как черные жуки. Разрезали парчовую ризу у него на груди ножом, запустили ему руки за пазуху. Один из черных резко, наотмашь, будто ударил тьму саблей, повернул лицо к свету фонаря, и Лех чуть не вскрикнул. Этот человек бил его. Этот человек всаживал в него опьяняющие иглы. Авессалом!
Он повелительно взмахнул рукой готовым вытащить оружье Серебрякову и Исупову. Не стреляйте. Сейчас весь народ из церкви повалит. Весь русский Париж здесь. Не надо ходынки. Тут же дети… старухи. Тихо. Я сам его убью. Но не пулей. Я попытаюсь… Он облизнул вмиг пересохшие губы. Я по-иному хочу. Я сделаю это в память Стива. Я попробую. Если они меня сумеют прикончить, а не я их — значит, туда мне и дорога.
— Что он задумал, Исупов?..
— Тише. Не мешай ему.
Полковник и капитан стиснули до хруста руки друг другу.
Прямо на Леха надвигался человек с Черным Лицом. Черные очки крепко всажены в переносицу; темная кожа обтягивает череп, загорелая, южная, смуглая. В сумеречном свете скулы приобрели оттенок серой мертвенности, безжизненной земляной черноты. Черный сделал молниеносный выпад в сторону Леха; вот где пригодилось твое восточное уменье, твое тайное каратэ-до, посвященья твоего мастера. Черный не хотел долго играть. Рука с револьвером вскинулась, и дуло надменно выставилось черным птичьим клювом тебе, солдат, в беззащитный висок.
Лех поднял навстречу ему обе руки, ладонями вперед, и пошел, пошел, пошел на него. Он глядел в одну невидимую точку, и лицо его застыло неподвижно, страшное, перекошенное, как дом после землетрясенья, и каждый малый мускул под кожей напрягся в молчаливом крике. Он глядел прямо в глаза Авессалому. Глядел прямо в глаза. Глядел.
Револьвер медленно выпал у черного из руки. Те, другие, застыли у машины. Лех, с искаженным донельзя лицом, прикоснулся ладонями ко лбу Авессалома. Испустив вопль боли, тот упал на затылок, лицом вверх, и потрясенный Исупов различил в сумерках вечера красный, обширный, вздувшийся пузырями, ожог на лбу и щеках поверженного.
И с небес пошел, повалил мелкий, крутящийся снег, и Лех, капитан и Исупов провалились в темноту, в белое колобродье, и Лех, убегая, успел, изловчился, сдернул с груди у мертвого Ионафана мешочек с Сапфиром; а из полуоткрытой внутрь храма массивной, в золотой лепнине, двери доносилось тихое пенье согласного хора, струился медовый, яблочный свечной свет, тянуло запахом елея и кадильного ладана. Черные, очухавшись, бросились в машину. Тьма уже поглотила беглецов.
А в зимнем запорошенном газоне, посреди роскошного бульвара Монпарнас, подняв руки к небу, с которого сыпалась и сыпалась серебряная манна невероятного для Парижа, драгоценного снега, стоял худой кривой на один глаз старик, исповедник Кришны, и лохмотья, наподобье женского потрепанного сари, еле прикрывали его коричневое, как старый дуб, узловатое тело. Снег садился на бритую голову, с шеи свисали коричневые мелкие деревянные четки. Он быстро перебирал их, бормотал, улыбался беззубо, и из единственного глаза его стекала по высохшему руслу морщины слеза: о, чтобы не было больше в несчастном мире зла… чтобы закончилась наконец Зимняя Война, необъявленная, без видимых причин… чтобы женщины снова рожали богов и героев… чтобы лилась только ягодная, яблочная кровь… харе, Кришна… харе, Кришна… Кришна, Кришна, харе, харе… Машины свистели и визжали шинами вокруг него. Снег летел и летел на бритый затылок. Небо любило его. Небо ласкало его, голого земного младенца, белой холодной рукой. Он перебирал дубовые четки и нежно, как в бреду, бормотал без конца: харе, харе, харе…
Самолет с острым птичьим клювом, чуть изогнутым, свисающим вниз крючковатой каплей, быстро, оглушающе стремительно набрал скорость и взмыл со взлетной полосы почти вертикально вверх, убрав, как жук лапки, подкрылки и шасси.
И тотчас же, следом за ним, взлетевшим так удало и рьяно, стали подниматься с горного аэродрома и набирать скорость, и ужасающе, умопомрачительно и призывно гудеть, устрашая, объявляя во всеуслышанье: НАЧАЛОСЬ! — другие самолеты-птицы, а за ними на бетонную полосу выкатился и вовсе уж Адский зверь: скат не скат, камбала не камбала — прямоугольный кусок стали, выгнутый так, чтоб воздух свистел под краями, — и поднялся неслышно, без гула, и, когда чуть отлетел от аэродромных огней, его внезапно не стало видно в утреннем белесом зимнем небе.
Это начался последний бой?!
Нет, Юргенс, это бой не последний. Это просто военный бой. Обычный. Бой из боев. Будничный. Ты, подсоберись, мужик.
Он просто — ПЕРВЫЙ ДЛЯ ТЕБЯ.
Я ТАК ХОРОШО ЕГО ПОМНЮ, ГОСПОДИ, ЧТО ОН ДЛЯ МЕНЯ ИДЕТ ВСЕГДА. ОН НИКОГДА НЕ КОНЧИТСЯ.
Авиация вся уже была в воздухе. Ингвар знал, что должно быть подкрепленье с Тибета. Он ждал воздушной армады со стороны высоких гор, с юго-востока. Он прижимал к глазам бинокль так плотно и больно, что под веками у него отпечатались два красных полукружья. Нет! Их не может быть так рано. Еще утро. Развиднеется. Нынче будет ясный, морозный день. Мильон километров высоты, мильон километров видимости — старая пословица летчиков. Бедный Черный Ангел. Сегодня и его праздник тоже. Беда, никто не знает, на чьей он стороне воюет. Ему бы с радостью вбили в хвост пулеметную очередь и его асы, и вражеские. Но он — свят. Он — табу. На него молятся. Он — вестник.
Ну предвести же, Ангел, хоть что-нибудь. Где ты?!
И его нет тоже.
Небо медленно наполнялось голубой ясной колодезной свежестью. Самолеты, взлетев с жутким ревом, исчезли в синеве. Юргенс, с другими солдатами, стоял в шеренге, пожирал глазами командира. Сейчас им прикажут бежать, и они побегут. Прикажут стрелять — они станут стрелять. Война — слепое подчиненье приказу. Кто придумал такую плохую игру. Кто! Покажите мне его, и я его убью.
— Напра-во!.. В траншеи от воздушного налета — укрыться!.. Автоматы нагото-ве!.. Капитан Серебряков!.. Солдат — к зениткам!.. К противовоздушной обороне при-готовиться!..
Командир батареи еще кричал, приказывал. Юргенс не слыхал. Он как оглох. Уши ему заложило неистовым горем, сильнейшим — ничего подобного он не испытывал во всю свою невеликую жизнь. Вот самолеты взлетают, и он оглох от их гула. Во чревах они несут смерть. Будут рушить, сыпать ее вниз, на склады, на строенья, на арсеналы, на сараи и плотины, на людей. И на горы и озера они тоже будут сыпать ее, разрывающуюся черно и бесплодно; и звери погибнут, и птицы погибнут. А он, Юргенс?!
Он закрыл лицо руками. Очнулся от приказного ора Серебрякова над самым ухом.
— Ты что, мать-ть-ть твою?!.. ревешь, как баба?!.. В траншею!.. Живо!..
Он отнял руки от лица, глядел на Серебрякова в отупении.
Бой. Это начался бой. Это началась смерть.
Генерал Ингвар сидел в Ставке перед синим экраном, на котором посредством беганья маленькой красной стрелочки отражались все перемещенья его и вражеских самолетов, его и вражеских войск. Люк безмолвно всунул ему в пальцы сигарету «КАРМЕЛА», поднес зажигалку, высек синий огонь, и он, не глядя, выкурил подношенье, ссыпая пепел не в хрустальную пепельницу в виде морской раковины, стоявшую на столе, а прямо на пол. Он внимательно, закусив губу, наблюдал передвиженье самолетов, и испарина выступила у него на лбу, на висках.
— Люк, — сказал он хрипло. — Наберите номер ракетного бункера. Я хочу говорить с полковником Исуповым. Он сейчас там.
Трубка была немедленно приткнута к щеке генерала.
Он сделал последнюю затяжку и смачно выплюнул окурок в пепельницу, будто это была персиковая косточка.
— Исупов!
— Да, — потусторонне, глухо раздалось в трубке.