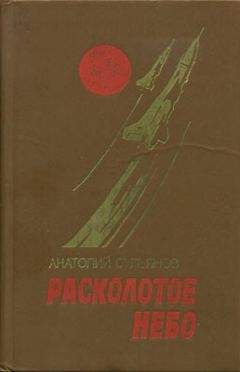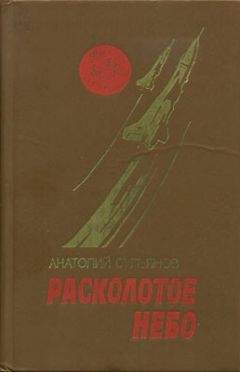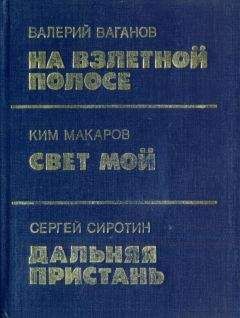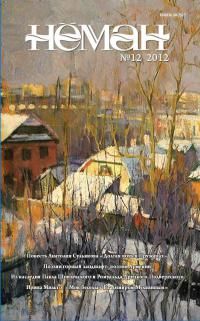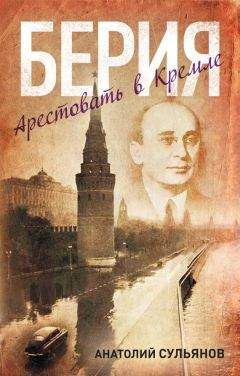Сегодня мы с тобой вспоминали Потапенко, а я думал только о тебе; ты вспомнила, как в тот вечер, когда хулиганы избили Генку, Потапенко всю ночь просидел возле его койки, а наутро пошел к командиру полка и защитил его от обычных в таких случаях неприятностей, а я представил, как горько было тебе перевязывать его…»
С того далекого дня, когда Лида вышла замуж за Васеева, Николай завел дневник. Вынужденный тщательно скрывать свои чувства, он стал разговаривать с Лидой на страницах тетрадки.
«Милый Лидок! Вот и сегодня здесь, в свободную минутку, я снова пытаюсь говорить с тобой, но ты молчишь. Ты рядом со мной, и я специально для тебя поставил стул. Мне теплее от твоего присутствия. Ты согреваешь меня, когда к ночи у нас становится не так многолюдно. Ты рядом на фотокарточке — помнишь, мы все сфотографировались в первый день после выпуска из училища? Среди страшно серьезных перед фотоаппаратом лейтенантов ты улыбаешься, будто ты одна желала этого солнечного дня — окончания училища и исполнения нашей общей мечты. Я гляжу на эту фотографию порой всю длинную-предлинную ночь и вижу тебя. Мы с Геной и Толей вроде бы мужаем, а ты все такая же, как на фотокарточке, почти девочка, хрупкая и беззащитная, какой мы впервые увидели тебя в белом халатике на аэродроме. Мы полюбили тебя почти одновременно и когда сказали об этом друг другу — я уступил. И вот уже долгие годы не могу себе этого простить…»
Ночные дежурства позволяли Кочкину подолгу оставаться одному со своими размышлениями; одиночество, с которым он почти не встречался раньше, на летной работе, теперь стало его постоянным спутником, и он, случалось, радовался, когда дежурство выпадало на Ночь, когда остаешься один на один с черными телефонами да с микрофоном умолкнувших после окончания полетов связных радиостанций.
О чем бы ни думал он в часы, когда день борется с ночью, независимо от своего сознания он возвращался к образу Лиды; ее глаза были всегда рядом, и достаточно было сомкнуть веки, как тут же возникали то ее густые волосы, то ее маленькие, неяркие губы…
И он начинал разговаривать с нею, стараясь услышать ее голос; голос словно приходил издалека, из-за толстых стен КП; он не мог разобрать, о чем она говорила, видел только ее раскрытые губы, звуки не долетали.
Когда-то, еще в ту пору, когда Николай жил со Сторожевым в квартире Васеевых, он записал на магнитофон Лидин голос: после завтрака она собирала Игоря и Олега в детский сад, помогала им одеться, убеждала освободить карманы от всевозможных железок, камней, цветных стеклышек; ребята, как могли, сопротивлялись, увертывались из ее рук, с визгом выскакивали в коридор; Лида снова возвращала их в кухню… Вся эта веселая возня длилась чуть не полчаса, и Николай бережно хранил пленку.
Однажды, собравшись на дежурство, он взял с собой завернутый в целлофан ролик. Поздно ночью, когда остался один, включил служебный магнитофон, плотно прикрыл двери, уселся в кресло… Лида будто наяву вошла к нему в огромный, притемненный на ночь зал. Николай вслушивался в ее мягкий грудной голос, в звонкие голоса детей — словно у чужого костра грелся украдкой…
Темная осенняя ночь близилась к концу. Из открытой форточки тянуло холодом. Васеев закрыл ее и накинул на плечи куртку с пушистым меховым воротником. В кресле, прикрыв глаза, полулежал Анатолий — он еще с вечера, услышав прогноз метеоролога о заморозках, оделся потеплее.
Хотелось спать. Васеев взглянул на часы и вышел на улицу. По давней привычке посмотрел сначала вверх — над головой угрожающе стлались потемневшие облака; затем перевел взгляд на землю — холодный ветер волнами гнал вдоль стоянок самолетов ворохи жухлых листьев, выстилая ими рулежные дорожки и узкие, ведущие в гарнизон тропки. Облизывая высокие островерхие тополя, на аэродром с холмов медленно сползал промозглый туман. Под ногами ходившего по стоянке часового похрустывал первый тонкий ледок. Васеев по-хозяйски обошел дежурные истребители, поправил чехол ракеты, осмотрел шасси, словно убеждаясь в готовности боевых машин, — таким маршрутом летчики осматривают самолеты перед вылетом.
Зябко передернув плечами, он вернулся в домик. Здесь было тепло и уютно. Подошел к столу, налил из термоса горячего чаю, уселся в кресло и принялся отхлебывать маленькими глотками. Чай бодрил, отгонял утренний сон, приятно согревал. Геннадий предложил чаю Анатолию:
— Погрейся!
— Спасибо. Я так хорошо устроился, что и шевелиться неохота.
— Осталось немного — через десять минут смена подъедет. Полежи.
В дверь постучали, и на пороге появился сержант Борткевич с раскрасневшимся встревоженным лицом.
— Товарищ капитан! Мы ехали из столовой, везли завтрак. На посадочной полосе — утки! Много-много! А их бьют! Старший лейтенант Мажута и еще двое!
— Дежурную машину быстро!
— Есть!
— Толя, будь здесь, я съезжу посмотрю.
Васеев торопливо вышел на улицу, вскочил в кабину, и тягач двинулся с места. Борткевич вскочил в кузов.
Выехав на посадочную полосу, Васеев забеспокоился — тягач шел неровно. Его заносило то в одну, то в другую сторону. Водитель, молодой солдат, усердно крутил баранку, но удержать машину на прямой не мог.
— Юзит, — виновато произнес он, почувствовав на себе укоряющий взгляд Васеева.
Шоферы батальона обслуживания относились к летчикам с особым уважением. Когда в кабине оказывался кто-нибудь из пилотов, старались вести машину не спеша и аккуратно. А тут крути не крути баранку — машина будто не на полосе, а на льду, того и гляди перевернется.
— Притормозите! — попросил Васеев. Солдат выжал сцепление и нажал на педаль тормоза. Машину резко занесло. Васеев вышел из кабины и удивленно присвистнул: серый бетон покрылся тонкой пленкой льда: ночью прошел дождь, а под утро резко похолодало. «Хорошо, что не было вылета, а то пришлось бы покрутиться на полосе», — подумал он и снова сел в машину.
Вторая половина аэродрома выглядела еще хуже — здесь, видно, был настоящий ливень — и посадочная полоса, и прилегающая к ней земля с пожухлой травой издалека были похожи на разлившееся озеро.
В самом конце бетонки в белесом тумане неясно различались силуэты людей. Васеев увидел впереди копошащихся на полосе темно-серых уток. Одни беспорядочно били крыльями, стараясь подняться в воздух, другие, прихрамывая и истошно крякая, пытались сползти с бетона на траву, третьи, с примерзшими к полосе лапами, безжизненно распластались на льду.
Геннадий выскочил из кабины. За ним спрыгнул Борткевич. Вдвоем они принялись ловить перепуганных уток и укладывать их под брезент в кузов тягача. У многих птиц были сломаны лапы, разбиты крылья и клювы.
— Я тут сам управлюсь, товарищ капитан. Вы бы шли вон к тем, — Борткевич махнул рукой в сторону, где виднелись суетившиеся фигуры.
— Добро! Только поаккуратнее, Миша.
Васеев побежал. «Откуда здесь, на полосе, взялись утки? Что привело их сюда?» — думал он. Бежать было трудно, ноги скользили, разъезжались, стоило немало усилий, чтобы не упасть. Подбежав ближе, он увидел Мажугу. Техник с дружками ловил разбегавшихся обессиленных уток, глушил их палкой, хватал за крылья и бил головками о бетон. Перепуганные, ошалелые от страха утки отчаянно кричали; в воздухе вился серый птичий пух. Возле опрокинутых велосипедов лежала куча безжизненных тушек с красными растопыренными лапками и окровавленными перьями.
— Стойте! — закричал Васеев. — Остановитесь! Что вы делаете?!
Он кинулся к Мажуге, но тот, казалось, не слышал его и продолжал гоняться за утками. Его дружки тоже не обратили на Васеева внимания — спешили спрятать тушки убитых уток в рыбацкие рюкзаки.
Геннадий схватил Мажугу за руку:
— Остановись! Что вы делаете?
— Отойди! — рванул руку Мажуга. — Тебе больше всех надо?! Ты их растил? Нет! Тогда иди своей дорогой! Мне утятинки захотелось. Как говорят, без кайфа нет лайфа. Понял?
Васеев обескураженно стоял перед ними и не знал, что делать дальше. На какое-то мгновение он почувствовал себя бессильным. В ушах стоял истошный утиный крик; ему казалось, что его зовут на помощь, что он, только он один может спасти попавших в беду.
— Прекратите, приказываю! Стрелять буду! — Он рывком расстегнул карман кожаной куртки, вынул показавшийся ему тяжелым пистолет и поднял его над головой. — Стойте! Стреляю!
Мажуга и двое из поселка — теперь Геннадий узнал их — испуганно вытянулись и, тараща глаза, замерли; один, державший палку, зло швырнул ее в кусты и прижал руки к бедрам. Изрядно струхнувшие, они робко начали пятиться к лесу, но Васеев остановил их.
— Что же вы делаете? Разве вы люди? Убиваете беззащитных птиц! Храбрецы! Как же вы детям своим после этого в глаза смотреть будете? А? Молчите? Вы, Мажуга, ответите перед всем полком! А вы, — Геннадий приблизился к мужчинам из поселка, — вы перед советским судом ответ держать будете!