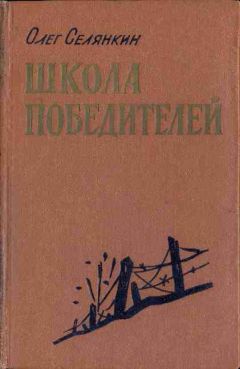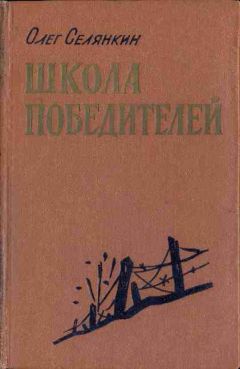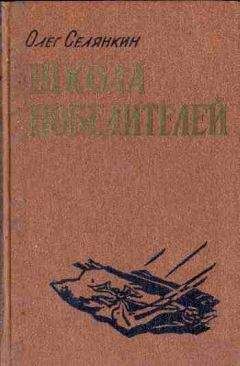Скрипели несмазанные колеса. Плешивый, будто изъеденный молью, вол, роняя слюну, тяжело мотал головой и припадал на треснувшее копыто. Парное ярмо, не уравновешенное вторым быком, скользило по его тощей шее, било его по плечам. Пустое прясло сиротливо болталось в воздухе.
— А где другой бык, дедусь?
Старик не ответил.
Я не встретил еще ни одного немца, не видел ни виселиц, ни заваленных трупами рвов, и только голая, одичавшая степь расстилалась кругом. Такой, вероятно, была она и сто, и двести, и четыреста лет назад, еще тогда, когда могучий Тарас скакал по ней во главе своего полка и лютой местью расплачивался за гибель своих сыновей; когда Хмельницкий, разгромив под Желтыми Водами поляков, положил начало освобождению Украины; когда Шереметьев, а потом и Суворов вели здесь «а турок свои войска. Такая же знойная стояла здесь тишина, так же колыхался ковыль, так же пахло полынью. Столетиями, пядь за пядью отвоевывал у пустыни, у турок эту землю украинец; и оттого, может быть, была она такой плодородной, что не жалел для нее ни пота, ни крови упрямый в труде, беспощадный в бою, мечтательный в песне казак.
Два дня шел я по степи, и жестокая картина смерти и запустения раскрывалась передо мной. Было в ней что-то, отчего сами сжимались кулаки и тупая боль поднималась в душе. Сколько времени будет еще хозяйничать здесь враг? Где находится тот предел, тот последний рубеж, за которым уже не будет «заранее подготовленных позиций»? Когда же наступит тот день, которого ждем мы уже второй год, ради которого каждый из нас готов отдать все до последнего вздоха?
Нет, это зависело не только от тех, кто бился с немцем там, на Кавказе и под Сталинградом, Это зависело и от нас.
Но мы, забившись в глухие, непроходимые болота, превратившись в болотных зверей, мы второй год сидели тише воды ниже травы, высовывая наружу нос лишь в случаях крайней необходимости. Мы вели странную войну, основным стратегическим принципом которой было: «Не тронь меня, и я тебя не трону».
Мне уже очень давно, во время финской кампании, стало ясно, что война — вовсе не зрелище и не поле для богатырских подвигов. Это бедствие, это горе и это тяжелая, часто грязная работа. Но и тогда, в ту страшную зиму, когда мы замерзали под Суомисальми, до меня еще не дошло самое главное и существенное, что раскрылось много позднее, как судьба и задача нашего поколения…
Случилось это в страшные дни нашего отступления, в июне — июле сорок первого года.
Наш полк, нашу дивизию война застала врасплох.
В памятную ночь на двадцать второе июня — не помню уже, по какому поводу, — небольшой компанией гуляли мы в железнодорожном ресторане. Выпито было много, но все же, когда стали закрывать ресторан, нам показалось, что мы «не добрали», и чтобы «добрать», мы прихватили из буфета две — три бутылки ликера — другого уже ничего не оставалось. Потом мы долго сидели в конце перрона и стаканами пили отвратительно сладкий ликер, закусывая его огурцами.
Начинало уже светать, когда мы услышали глухие разрывы. Они доносились со стороны узловой станции, отстоявшей от нас километров на пятнадцать.
— Чего это? — полюбопытствовал кто-то.
— Чепуха… Комдив, вероятно, решил зенитчиков проветрить. Устроил им тревогу.
— С бомбометанием? — съехидничал один мудрец: над нами незнакомо гудели самолеты.
Ни одного выстрела не услышали мы в эту ночь на границе, находившейся всего в пяти километрах. А утром уже оказалось, что мы — три стрелковых полка — окружены, что штаб дивизии вместе с артиллерийским полком отрезан от нас.
Бои шли где-то к северу и югу, вдоль магистральных дорог, и лишь к вечеру наши пограничники обстреляли немецкий воинский эшелон, сунувшийся было через границу.
Два дня мы оставались в прежнем районе, ©се ожидая, что подойдут наши войска или по крайней мере про нас вспомнят, но мы больше никогда и ничего не слышали о командире дивизии, и лишь много позднее нам стали попадаться немецкие листовки, в которых наша дивизия упоминалась в числе окруженных и уничтоженных. Да так оно и было.
Три дня и три ночи двигались мы на восток, пытаясь догнать стремительно уходящий фронт. Изредка мы слышали отдаленные раскаты канонады, завывая, пролетали над нами немецкие самолеты, наскакивали на нас мотоциклисты и бронемашины — мы уничтожали их, — но в общем это были какие-то странные дни. Мы двигались в пустоте, в безвоздушном пространстве, и это не было ни войной, ни миром.
Что-то непостижимое происходило вокруг. К нам присоединялись бойцы и командиры, врачи и интенданты, присоединялись гражданские — партийные и советские работники, пешком и на подводах, с семьями и без них. Все они рассказывали о тяжелых боях, о страшных бомбежках, о самолетах, расстреливавших их пулеметным огнем с бреющего полета. Мы встречали вытоптанные гусеницами поля, обуглившиеся остовы танков, еще дымящиеся развалины домов, вздувшиеся от жары трупы людей и лошадей. Но тут же, рядом, как ни в чем не бывало крестьяне работали на нетронутых полях, паслись коровы, ребятня играла в бабки. А в небе — тройками, шестерками, девятками — гудели желтобрюхие, со свастикой на крыльях «юнкерсы» и «мессеры», шли на восток и возвращались на запад, и опять шли на восток.
Но где же наши самолеты, где наши танки, наши войска? Ведь наступила война, та война, которую мы ждали, к которой готовились все годы с тех пор, как закончилась гражданская война?!
На третий день немцы забеспокоились, заметив наконец крупный отряд в своем тылу. Сперва над нами повисли одиночные разведывательные самолеты, потом появилась пятерка «мессеров», еще пятерка, и тройка, и опять пятерка. Для нас всех это была первая бомбежка, и это был сущий ад, и можно было сойти с ума от нескольких часов, наполненных воем бомб, грохотом разрывов, воплями раненых, и мы стреляли по бронированным самолетам из винтовок и пулеметов, потому что у нас не было ни единой зенитной пушки, и нам казалось, что мы слышали, как пули отскакивают от самолетной брони, и к вечеру нас стало в четыре раза меньше, а ночью мы уже наткнулись на немецкую мотопехоту, и мы впервые узнали, что такое автоматы, и казалось, что немцы всюду — справа, слева, сзади, — что их в десять раз больше, чем было на самом деле, и я впервые увидел, как люди, подняв руки, идут сдаваться, и мы открыли по ним огонь и убивали их, а утром через динамик из соседнего леса нам кричали: «Сдавайтесь, следуйте примеру лейтенанта Копытина, перешедшего на нашу сторону вместе со своей ротой!». И мы подозрительно поглядывали друг на друга, и опять налетали самолеты, и опять начинался ад, и нас было не больше батальона следующей ночью, и мы решили прорваться, и все же прорвались… Это было уже в июле, и все мы постарели на двести лет, и нас влили в какую-то свежую, еще необстрелянную часть, только что прибывшую не то из Тамбовской, не то из Воронежской области, и вдруг мы оказались в резерве.
И опять это было очень странно, и странное это было сочетание — мы, прошедшие сквозь весь этот ужас, потрясенные, еще не пришедшие в себя, и здоровенные детины, в новеньком обмундировании, в прилаженных шинелях, в стальных шлемах (у нас их никогда не было), с противогазами (мы их побросали, а сумки использовали под всякую походную чепуху). Они слушали нас, наши рассказы, каждый по-своему — одни с презрением, другие со снисходительно- недоверчивой улыбкой, за которой отчетливо прощупывалась тревога, третьи с сосредоточенно-внимательными лицами (эти потом лучше всех дрались), а четвертые бледнели и охали, и переписывали какие-то молитвы и заговоры, и зашивали их в ладанки.
Потом нас снова бросили в бой, и мы заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж, а в противотанковом рву еще работали гражданские— старики, полуинвалиды и почти дети, и женщины, больше всего женщин, очень много женщин… И опять самолеты возвестили о приближении фронта, и опять сперва появились разведчики, а потом бомбардировщики, и это было еще ужаснее, чем все то, что было раньше, потому что мы сидели в надежных укрытиях и могли выдержать и десяток и два десятка таких бомбежек, а они бомбили то, что они видели, а видели они только гражданских — стариков, женщин, подростков, — и уцелевшие бежали к нам, в укрытия и окопы, и за ними охотились, как за дичью, и расстреливали их с бреющего полета; наши зенитчики сбили несколько самолетов — два или три, — и мы плясали от радости, потому что поняли, что немцы тоже могут гореть в воздухе и врезаться в землю, подымая облака дыма и пыли… Откуда-то появились наши «ястребки», всего три штуки, но они сбили еще четыре или пять, а потом один из «ястребков» вдруг задымил, и развернулся, и пошел прямо на немца, и с огромной скоростью врезался в него, и, дымя, оба пошли вниз почти вертикально, и немец успел выброситься с парашютом и приземлился почти возле наших окопов, и солдаты тут же хотели прикончить его, эту собаку, сопливого мальчишку, который бомбил женщин и детей, и мне тоже хотелось прикончить его, но нас остановил комбат, летчику только дали несколько раз по морде, и он ревел белугой, и молитвенно складывал руки, и вопил «Гитлер капут!»… Это был первый живой немец, которого я видел вплотную, и, по-моему, его не следовало отправлять в штаб, его надо было водить на веревке по окопам и показывать солдатам — пусть видят, что фашисты, расстреливающие женщин, сами боятся смерти, а многие из нас не боялись.