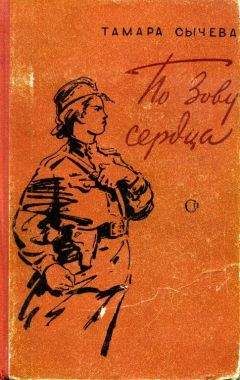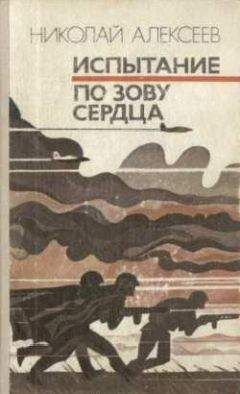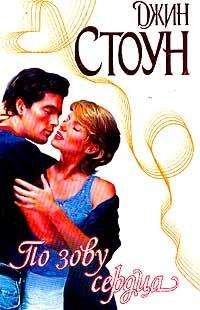— Вот гады! — негодовал Трощилов, стискивая зубы.
Когда рабочие разошлись и мы остались втроем, парторг заговорил первый:
— Теперь, Трощилов, мне хочется с тобой поговорить в присутствии Тамары по-партийному.
Все еще расстроенный, Трощилов, бросив на стол ручку и достав из пачки папиросу, закурил, приготовившись оправдываться.
— Секретарь райкома, — медленно начал Зобин, — охарактеризовал тебя как спокойного, солидного и уравновешенного человека. Но сегодня я увидел другое. Ты чуть стулом не запустил в человека. Тебе не стыдно?
— Да разве он человек? — с презрением сказал муж. — Фашистское охвостье. Это паразит, которых развели фашисты. Таких уничтожать нужно!..
— Но не такими методами, как на войне, — возразил Зобин. — Ты забываешься.
— Да, трудно нам, нервишки, — вздохнула я и, стараясь как-то смягчить впечатление от поведения мужа, стала рассказывать о себе: — Недавно на комсомольском собрании в одном колхозе я не сдержалась и стала упрекать комсомольцев, что они в оккупации не сумели сохранить свои комсомольские билеты, разволновалась, вошла в азарт, наговорила много лишнего и оскорбительного. Потом мне за это на бюро райкома здорово влетело, — призналась я, — вот такие у нас нервы теперь.
— Защищаешь мужа? — укоризненно взглянул на меня Зобин. — Мы сейчас нервы лечить должны, а не распускать их, чтобы они в работе не мешали.
— Теперь скажи нам, Петя, — придвинулась я к мужу, — как это так получилось, что посевное зерно ты принял под отчет, а ключ отдал начальнику?
— Он приказал, я и отдал, — раздраженно ответил Трощилов.
— Как же так? Отвечаешь-то ты за него.
— Это можно понять, — подумав, сказал Зобин. — Человек в армии привык: командир приказал — и выполняй. Метод работы у тебя армейский, приказной. С этим надо, Петро, покончить. Я давно тебе об этом хотел сказать, — спокойно, но твердо продолжал Зобин. — Помнишь, как тебе тот рабочий ответил? — И Зобин рассказал мне: — На днях как-то подает директор команду, как пахать, а бригадир ему и говорит: «Вы, товарищ директор, даете неправильное указание. Сначала нужно вспахать верхние земли, а потом пройти по низам. В лощинах еще сыро, липкая грязь».
Трощилов возмутился и, сердито посмотрев на рабочего, спросил: «В армии служил?» — «Служил», — ответил тот. «Устав знаешь? Приказ командира не обсуждается. Работай».
Ну, и что же из этого получилось? Тракторы увязли, рабочие ругались. А если бы прислушался к бригадиру — этого не произошло бы.
— Что ты учишь меня? — возмутился Трощилов. — Что я не знаю сам, как мне работать? Вот попробуй на моем месте, покрутись, когда ничего нет! Дисциплина разболталась, приказов моих не выполняют, на работу не выходят, только и видишь: с корзинами на дороге голосуют.
— И все-таки Виктор прав, — сказала я мужу. — Я уверена, он тебе плохого не посоветует. Его спокойствие и рассудительность мне еще в разведке нравились. Помнишь, Витя, — обратилась я к Зобину, — как мы тогда ждали ответа из штаба перед банкетом? Мы с Маней с ума сходили. А ты был невозмутим. «Наши не допустят, чтобы что-нибудь случилось, найдут возможность связаться с нами», — говорил ты и спокойно ждал. Так и случилось.
— Да, — засмеялся Зобин.
В этот вечер, в неуютной по-холостяцки халупе Трощилова, мы с «братом» допоздна сидели над кружками давно простывшего чая. Утомленный Трощилов давно уже спал, а мы все вспоминали тяжелые минувшие дни.
— Маня погибла в Крыму, — горько вздохнув, сказал Зобин.
— Что ты! — вскрикнула я.
— Где-то в Советском районе. Ее выбросили в сорок третьем году на связь с подпольщиками Керчи. Долго ждали ответа от нее, но так и не дождались. Подробности ее гибели остались неизвестны, но ясно, что она погибла, иначе бы пришла на явку.
— Бедная Маня… А зачем ее вторично туда забросили? — с упреком посмотрела я на «брата».
— Она сама просилась. Я как раз в это время был там в штабе, тоже готовился к прыжку к партизанам. Потому и знаю. Выбросили — и все, — прочесав пальцами взъерошенный рыжий чуб, грустно закончил «брат». — А Луиза жива.
— Откуда ты знаешь?
— Случайно. Недавно ехал я из Москвы в поезде и вижу, в соседнем купе едет полковник летных войск, дважды Герой Советского Союза. Лицо его показалось мне знакомым. И кто это оказался, как ты думаешь?
— Неужели Свинцов?
— Он. Я подхожу, говорю: «Товарищ полковник, не узнаете?» Сначала всмотрелся в меня, потом стал обнимать.
— Ну и что? — нетерпеливо перебила я «брата». — А как Луиза? Что с ней потом было?
— Она еще с неделю работала в Симферополе. А потом как-то утром ей принесли из штаба телеграмму от «отца» из Парижа. Старый Фальцфейн писал, что выезжает в Симферополь. В эту же ночь наша Луиза ушла в лес, оттуда ее переправили на Большую землю.
— Значит, она потом встретилась с Анатолием?
— Конечно. Сейчас они живут в Свердловской области. Она работает в театре, кстати, как и я, секретарь партийной организации.
— Что ты? — удивилась я. — Вот не похоже на Луизу. С ее характером…
— Да, Анатолий рассказывал, что она по-прежнему такая же живая и веселая; правда, тяжелая работа в разведке не прошла даром. Болеет сердцем, но театр оставить не хочет. У них ребенок.
— Да-а, — вздохнула я, прихлебывая остывший чай. — Но Маня… Как мне жаль Маню!
На следующий день мы с Трощиловым уехали в район вместе на совхозной бидарке, — ему нужно было туда по делам.
Я опять стала уговаривать мужа внимательней прислушиваться к советам Зобина, но он накричал на меня. После вчерашнего инцидента с заготовителем настроение у него было очень мрачным.
— Не могу работать! Не справляюсь! Уйду, брошу! Разве нет другой работы?
Никакие уговоры и советы на него не действовали. Чтобы не раздражать мужа, я замолчала, но сама думала: «Как его убедить? Как?»
В воскресенье в совхоз пришла машина. Из кузова с веселым шумом высыпали комсомольцы. Все в совхозе засуетились, забегали по хатам и с большим трудом достали несколько лопат. Но это, конечно, не смогло спасти положение. Просидев полдня без дела, горожане уселись в машину и уехали обратно, ругая того, кто их прислал.
— Сколько могли процапать! — с горечью вздыхал дед Михеич, провожая глазами уезжающих. — А теперь нам помощи уже не дадут больше.
Через несколько дней на расширенном бюро райкома обсуждался самый тревожный в те дни вопрос: о состоянии сельского хозяйства в районе.
Когда я вошла, с трибуны говорил седоголовый коренастый председатель колхоза. Военный китель его был увешан боевыми орденами, а на полевых погонах подполковника поблескивали эмблемы танкиста.
— Товарищи, нам, отставникам, конечно, очень трудно привыкнуть к колхозной демократической дисциплине. — Я взглянула на мужа. — Конечно, работать сейчас нам очень и очень трудно, но мы должны первыми откликнуться на призыв нашей партии, пока подрастет и выучится новое поколение.
В нашем колхозе самый назревший вопрос сейчас — это сенокос. Скот необходимо обеспечить на зиму кормами. Косилки некоторые отремонтированы, а на другие не достали запчастей. Что делать? Дал бы в руки колхозникам косы, их легче достать, и — по старинке вручную. Но кому? Кому же, когда в колхозе нет людей, и одной бригады не соберется, а работы много, площадь большая.
Давно я просил райком, — продолжал председатель. — Помогите в посадке табака, подбросьте людей из города. Вы обещали, товарищ Варалов, сказали мне: жди, в это воскресенье обязательно приедут комсомольцы. Ну и что же? Где ваши люди? От вас я этого не ждал. Раньше вы всегда свое слово держали, — стыдил он Варалова. — Подвели. Мы ждали, но никто не приехал.
Варалов посмотрел в мою сторону и укоризненно покачал головой.
Я покраснела и опустила глаза.
Свою фамилию Трощилов услышал будто неожиданно. Даже вздрогнул и побледнел. Выступление свое начал с того, что ему особенно трудно, потому что не хватает людей. Нужны люди.
Первый вопрос задала Трощилову я:
— Расскажите, как вы использовали горожан, приехавших к вам на помощь в это воскресенье.
Трощилов недружелюбно покосился в мою сторону и вытер платком вспотевший лоб.
— Надо сказать прямо — не обеспечили их лопатами. Люди посидели и уехали.
Сваливать на заготовителя он считал неудобным и поэтому не стал объяснять причин.
К трибуне я шла нерешительно. По дороге встретилась с тревожным взглядом мужа. Лицо у него было хмурое.
На какую-то минуту появилась жалость, но тут же ее перевесило желание высказать, что тревожит меня. Но… Нет, этого говорить нельзя. Дома, когда мы оставались вдвоем, я не раз пыталась внушить ему, что так нельзя: в совхозе ввел военную дисциплину и политику единоначалия. Сам в сельском хозяйстве не разбирается, а советами коммунистов, секретаря парторганизации и специалистов пренебрегает. Не руководит, а по-армейски командует. Часто ошибается, а потом в заключение — скоропалительный вывод: «Не справляюсь, не могу работать!» Но здесь сказать все это я не могла… Рассказала только о том, что вовремя не был приготовлен необходимый инструмент, что, вопреки указанию секретаря райкома, городских комсомольцев в первое воскресенье я послала не в колхоз, как было намечено, а в совхоз, к мужу, чтобы помочь ему, и что в результате этого получилось.