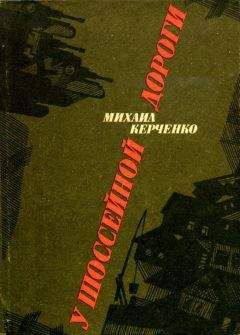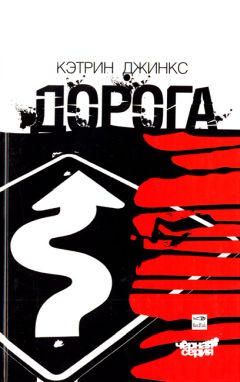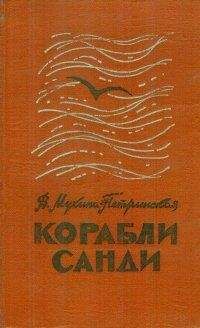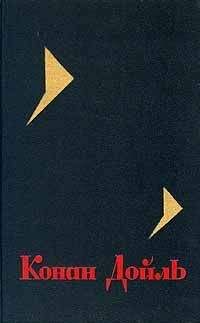Я подумал с горечью, что наш воздушный замок рухнул. Я здесь навсегда бросил свой якорь. А вслух продолжал рассуждать о Севере:
— Там такая глухомань: тайга, болота, мошка страшная. Далеко от культурных центров. А людей на сто квадратных километров — полчеловека. И работать я буду опять-таки пчеловодом. Весной привезут мне с Кавказа пчел в пакетах, в таких фанерных ящиках. Я пересажу их в улья и размещу на лесных вырубках и гарях, где кипрей растет. Это прекрасный медонос. Построю жилье — шалаш из веток. Ты согласна жить в шалаше? Молчишь! Куплю ружье, чтоб себе пищу добывать. Осенью мед весь выкачаю, сдам, пчел закурю, деньги в карман, а сам… к эскимосам до весны. Хочется подышать северной экзотикой.
Она понимала, что я шучу, и сочувственно, в такт моим словам, кивала головой, все так же мило и доброжелательно улыбаясь.
— Ваня! Ну зачем ты так… Я трудностей не боюсь. Но что за причуда работать здесь? Вот что мне не понятно, — посмотрела чуточку грустно. И ямочки на щеках исчезли, и глаза утратили голубизну. Продолжала уже серьезно:
— Откровенно скажу: мне твоя работа не нравится, не по душе. В крайнем случае, ты можешь устроиться преподавателем в сельхозтехникуме или агрономом в управлении.
— Ты что, Марина?! Да я нашел то, что искал. Теперь это мой мир. — Я обвел вокруг себя рукой. — Здесь я живу. А ты хочешь лишить меня всего этого?
Она подумала и сказала, что я здесь одичаю. И сказала это с такой убежденностью, что мне немного стало не по себе. Я сослался на инженера Шабурова. Зиму и лето он мотается на колесах в степи, в лесу — и ничего, не дичает. У него столбы да провода. У меня рай: пчелы, цветы, мед. Вся природа. Трактористы, агрономы все лето в поле. Доярки три раза в день выезжают на пастбище доить коров. У всех у них очень много беспокойства. Они живут, не дичают. И я хочу пожить уединенно, обыкновенного пчеловода никто не осуждает. А чем я хуже других?
— Правильно, — оживилась Марина. — Но все же это место не для тебя. Здесь твой мир будет ограничен, ты духовно засохнешь. А тебе нужен взлет…
— Я внутренне устал, понимаешь? Металл устает, а я человек.
Она отрицательно покачала головой, схватила мою руку и начала допрашивать:
— Когда ты успел устать? Скажи? Жить только начинаешь, — смеется и ямочки на щеках углубляются, мила, ласкова и заботлива.
Разве мог я признаться, что на днях вышел из тюрьмы? Что надо время, чтобы прийти в себя. Но как же убедить ее, что мой шаг правильный?
— Марина! Понимаешь, я не терплю городскую пыль, всякие очереди, не переношу автобусно-трамвайно-троллейбусную маяту, шум и людскую суету. Здесь я могу спокойно, без нервотрепок, один работать, думать один, спать и гулять один. Ты поняла меня?
— Нет! Куда ты уйдешь от людей в наше-то время? Странный ты какой-то. — Она с грустью посмотрела на меня, встала и направилась в сторону пасечного домика.
— Ты нигде не найдешь покоя, поверь мне, я же знаю твой характер, — сказала оглянувшись. — Потом будешь каяться. Время потеряешь…
— Я уже нашел покой. Повторяю: нашел!
— Это видимость, иллюзия. Ты просто чем-то напуган. Ты же молод, силен, образован и должен брать на себя большой груз, ну, как тебе сказать, не отсиживаться в окопах, а рваться в атаку, предъявлять к себе и к жизни безмерные требования. Гореть надо, гореть, а не чадить. Пойми! У меня, будущей журналистки, такой взгляд…
Мы шли по лесу, взявшись за руки, то спускались в низины, то поднимались на холмики. Среди берез и осин попадались островки хвойных деревьев. На опушке у оврага обнаружили черемуховую рощу. Она только начинала цвести. От нее исходил густой дурманящий аромат. Жужжали тысячи пчел, перелетая с цветка на цветок. Мы шли по перелескам, полянам и балкам, и всюду попадалось множество трав. С каждым шагом я убеждался, что место для пасеки выбрано очень удачно, все в окрестности цветет с ранней весны до-поздней осени. Пчелы всегда найдут для себя взяток.
На пасеке, в тени под березой, стоял «Москвич» Дмитрия Ивановича. Сам он, подстелив кошму, лежал на земле, дремал. Услышав наш разговор, встал, неторопливо и с достоинством пожал мою руку. На нем фуражка цвета хаки с приподнятой тульей. Эта фуражка делала Дабахова высоким, а лицо его сухощавым и строгим. Видно, он был бравым солдатом. Орден на груди.
— Вот видишь, гора с горой не сходится, а люди — частенько, — сказал он и посмотрел на Марину. — Ишь как разрумянилась. Иван Петрович, покупай невесту… Сто сот стоит.
— Не продешевите, Дмитрий Иванович.
Марина вспыхнула и направилась к озеру.
Кузьма Власович, покуривая, стоял около домика у верстака, сколачивая рамку. Натягивая проволоку, он большим корявым пальцем пробовал ее на звук. Так пробуют струны у балалайки.
— Послушаешь тебя, так ты бы все продал, — сказал он Дабахову. — Если б мог и душу загнал бы… А?
— Раз бога нет, то души не жалко, — отшутился Дмитрий Иванович. — А дочь так, без ничего, не выдашь замуж. Денежки нужны…
Дмитрий Иванович нахмурился, отошел в сторону, присел на прясло, закинув ногу на ногу и засунув руки за солдатский ремень. Молча пережив обиду, как ни в чем не бывало сказал:
— А я сегодня уже наработался: пока вы там то да се — два раза съездил домой, отвез рыбу. У меня багажник приспособлен под рыбу.
— Где вы ее продаете?
— Дома. Жена оповестит кого надо. Приходят, берут за милую душу. Три рубля ведро карасей — не дорого! Сегодня полсотни выручу. — Он спохватился и отвернулся.
— Рыбу-то Кузьма Власович ловит, — сказал я нарочито безразличным тоном.
— Она сама ловится. Снасти мои. Раньше я их сам ставил, а потом Кузьма Власович говорит: что тебе беспокоиться? Мне, мол, одна приятность проехаться на лодке, поставить сети или снять их. Ну, раз ему так нравится, то, пожалуйста.
— Разве здесь рыбалка не запрещена?
— Кому запрещена, а кому нет. Досмотра особого не установлено, одну-две сети любой может поставить, а тем более пасечник или, к примеру, сторож для личного пропитания.
Дмитрий Иванович оттопырил нижнюю тонкую губу и посмотрел на меня. Под глазами трепетала мелкая сетка морщинок. В ежистых волосах играл ветерок.
— Вот так! Пчелы тоже могут доход приносить, ежели умеючи повести дело, — заключил Дабахов. — Я знаю в районе многих пчеловодов. Как они живут! Хоть и зарплатишка низкая, но…
Я понял его по-своему и сказал:
— Я тоже намерен кое-чего добиться, Дмитрий Иванович.
— Молодец! Я так и смекнул. Иначе зачем тебе было лезть сюда. Тут, брат, золотые россыпи. Мы не цветки топчем, а золотые крупинки. Пчелы их собирают. И ты не зевай.
— Пойду искупаюсь, — сказал я.
— Ты там поторапливай Марину. Мне некогда ждать, — крикнул вдогонку Дмитрий Иванович.
На песчаном берегу озера на кольях сушились сети. Видно, Кузьма Власович недавно выбрал из них для Дабахова рыбу. Марина в купальнике стояла по колено в воде. Стройная, обаятельная.
Я сел на камень, лицом к пасеке. Тихо. Где-то переливчато квакали лягушки, кричал в небе надо мной белый мартын. Вот пролетела низко над зеркальным плесом и села у берега стайка маленьких куличков. Марина, зачерпнув пригоршню теплой воды, подкралась ко мне сзади и плеснула за ворот рубашки. Я подхватил ее на руки, она хохотала, брызгая мне в лицо водой.
Мы сели на камень погреться. Марина извлекла из сумочки блокнот и карандаш и мигом нарисовала дядю. Он был похож на журавля: необыкновенно длинный и тонкий. Тощий живот подтянут к позвоночнику, а зоб раздулся от проглоченной рыбы. Перед ним стоит Кузьма Власович, озабоченный худобой Дабахова, и подкармливает его из корзины живыми карасями.
— Однако, Марина, на твой карандаш лучше не попадаться…
Она засмеялась и тут же изобразила меня дикарем. Я сижу на дереве, из дупла извлекаю соты с медом, отмахиваюсь от пчел и с восторгом уплетаю свою добычу. Озираюсь: нет ли поблизости людей.
Мне хочется побыть одному, совсем одному, и поэтому сегодня отправил сторожа домой, в город, на два-три дня.
Начались тихие жаркие дни. Температура в тени поднимается к полудню до тридцати градусов. Листья на деревьях вянут и морщатся. Бедный Адам все время держит пасть открытой, высунув узкий алый язык, дышит тяжело и быстро, поминутно лакает воду из корыта и посматривает на меня, будто предлагает: попробуй, легче будет.
Цветет белый клевер на ближних выпасах, малина лесная — на южных склонах, а дикая редька — на полях. Есть взяток! Я отмечаю это в своем пасечном журнале. Контрольный улей на весах ежедневно показывает двести-триста граммов привеса: столько пчелы приносят нектара. В сильных семьях пчелы к полудню прекращают вылет, выходят из ульев и «бородой» висят под прилетной доской: душно! Я полностью открываю верхние и нижние летки, у некоторых ульев приподнимаю крышки и кладу туда утепляющие подушки, чтоб солнце не прогревало. Начал расширять пчелиные гнезда и пожалел, что нет Кузьмы Власовича. Он бы мне помог. Делаю все, чтобы пчелы не роились, чтобы к началу медосбора семьи вышли сильные. Встаю рано: работаю, работаю, работаю до заката.