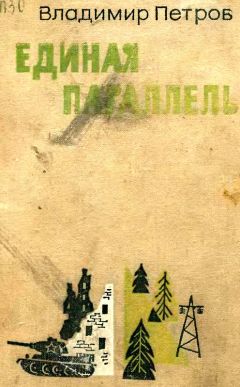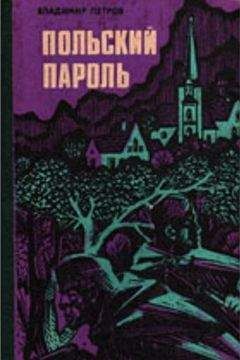И тут комбата осенило: Афонька переменился неспроста! Не от сердитых поучений капитана Тагиева, не от въедливых солдатских насмешек, и уж вовсе не потому, что быстротечное фронтовое время сгладило его отчаяние, печаль по погибшим братьям.
Он снова обрел опору, почувствовал рядом крепкую заботливую руку, которая поддерживает, подталкивает, не дает оступиться и безошибочно направляет.
И эта рука не чья-нибудь, а именно его — комбата Вахромеева…
«А ведь верно, едрит твою корень! — мысленно ругнул себя Вахромеев. — Стоило бы и пораньше догадаться». Он смотрел на мальчишески тощего Афоньку; ощущая тоскливый комок у горла, удивляясь вроде бы беспричинной, навязчивой, остро волнующей связи, которая рождалась где-то между сегодняшним Афонькой-солдатом и его, Вахромеева, прошлым, давним довоенным августом, окрашенным присутствием Ефросиньи. Это было нелогично, запутанно и смутно, как предутренний сон, как похмельное наваждение, но оно цепко держалось в душе, нарастало старой ноющей болью.
Он подумал, что у Афоньки Прокопьева, как и у Ефросиньи, очень похожие глаза — цвета размытого утреннего неба.
Ему захотелось что-нибудь сказать Афоньке, может быть, приободрить перед начинающимся боем, и он уже шагнул по направлению к блиндажу, но остановился. Понял, что искренних слов сейчас не найдет, а наигранная фальшь не для Афонькиной чуткой души…
Полдень наливался жаром, дымом, грохотом. За высотой, в сосняке, уже тупо буровили землю танковые снаряды, справа из черемушника затявкала сорокапятка — зло, торопливо, остервенело. He выдержали нервы у Бoриных артиллеристов. Сам он подскочил к Вахромееву, попросился, взбудораженно тараща глаза:
— Разрешите туда, товарищ капитан! Я мигом. Я им, сукиным детям, вправлю мозги! Попусту жгут снаряды, паразиты. Сам встану у панорамы!
Да, выдержки у ребят действительно не хватило. Правда, бить они пытаются по бортам, но дистанция пока что явно не по зубам пушчонке. Тем не менее Вахромеев спокойно осадил лейтенанта:
— Не гоношись. Ступай в блиндаж, к рации. Я же тебе приказал корректировать дивизионный артогонь. Кроме тебя некому. Понимаешь?
— Да ведь связи нет! Нет! — кричал Боря-артиллерист.
— А вот ты и добейся. Пошуруй за бок этого зануду радиста. Иди, лейтенант!
Дьявол бы побрал эту заморскую игрушку-рацию! Пищит, а толку никакого. Один треск, чтоб ее разворотило. Не надо было перетаскивать ее из «студебеккера». Пока стояла в кузове, связь была, а сюда принесли — молчит, хоть лопни. А с виду новенькая, аккуратная, вся в муаровой краске, в стеклышках и вертушках.
— Афанасий! — гаркнул Вахромеев. — А ну быстренько мотай к артиллеристам! Передай им, чтоб успокоились. А не то приду сам и за каждый пустой снаряд поотрываю им руки-ноги. Ну катись!
— Есть, товарищ капитан!
Прокопьев-младший затянул на две дырки брезентовый ремень, брякнул автоматом и мигом исчез по ходу сообщения. «Ишь ты! — изумился Вахромеев. — А ведь это привычка Егора Савушкина — натуго затягивать ремень перед атакой, перед тем как прыгнуть на бруствер. Интересно, когда успел подсмотреть Афонька? А подсмотрел, это точно.
Сколько ему лет: семнадцать или восемнадцать? Что ни говори, поздновато мать Степанида произвела на свет своего последыша, самой-то было уже за пятьдесят, пожалуй. Вот оттого, видать, и уродился Афонька хилым, непровористым, со старшими братьями равнять нипочем. Не струсит ли он сегодня, не драпанет? Вон она opaвa чумная ползет, вся в смраде и пламени, ни дать ни взять библейская геенна огненна.
Не побежит… Куда бежать-то — в лесу тоже немцы, И потом, как ни верти, Афонька солдат, а солдат знает: окоп в бою самое безопасное место».
Еще раз взглянув на дымно-пылевую завесу, в которой поплавками ныряли зализанные танковые башни, Вахромеев вдруг ощутил пронзительную тревогу, пополам смешанную со страхом: а ведь не устоять! Людей у него не наберется и полноценной роты, подмоги — никакой. Сейчас бы самый раз пройтись над полем штурмовикам-«илам», пошуровать бы немецкие танки эрэсами да фугасами-полусотками, вон как по-свинячьи нагло лезут! Так связи нет, молчит эта задрыганная красивая рация…
Отшвырнув на бруствер трофейный «цейс», Вахромеев в три прыжка достиг командирского блиндажа, скатился по ступенькам и, не сдерживаясь, заорал над головами радиста и Бори-лейтенанта:
— Ну!!.
Именно в этот момент, будто от испуга, заморская игрушка вдруг по-змеиному зашипела и загрохотала таким трехэтажным русским, что артиллерист Боря разулыбался во весь рот, довольный и счастливый.
— Теперь живем!
— Давай огня! — хлопнул его по плечу комбат. — Любого и немедленно!
Не успел он вернуться на свой окопный НП, как над головой зашелестели тяжелые снаряды, и далеко впереди, в тылу танковой фаланги немцев, черным гигантским веером встали гаубичные разрывы — первая пристрелочная серия, от которой вздрогнула, утробно заворочалась земля.
«Что ж, теперь и впрямь можно жить. Во всяком случае, воевать можно вполне». Вахромеев облегченно утер лицо, чувствуя обычную сосредоточенную уверенность. Раз пушкари за спиной, значит, пехота камнем в земле — сразу не сковырнешь. Он любил и уважал артиллеристов, верил в них еще со Сталинграда. Они пехоте родные братья, всегда рядом, всегда готовы «огнем и колесами». Попросил огонька, не откажут. А надо — добавят с присыпкой.
Вторая серия разрывов легла правее и ближе, зацепив бронетранспортер; третья — уже точнее. Прямо по танковому флангу: два «тигра» остались на месте, недвижные, густо чадящие, будто отсыревшие костры.
И все-таки Вахромеев уже оценил: танки прорвутся к высоте, больно жидок артиллерийский заградогонь. Он даже представил, как это произойдет: у самой подошвы холма, на рубеже проселка, вперед высунутся «огнеметки» и языками пламени станут выжигать окопы, а затем беспрепятственно на высоту влезут тяжелые «тигры». Против них некому будет вставать с гранатной связкой или с бутылками КС, они даже не станут утюжить обуглившиеся окопы.
Огнеметные танки — вот что было сейчас самое страшное, непоправимо опасное! Не устоят даже закаленные ветераны — остатки любимой комдивом «карманной роты»…
Нагнувшись, капитан нащупал телефон в окопной нише (единственная линия связи — к передовому отряду Савушкина). Крутнул ручку.
— Егор, твои пушки еще целы?
— Палят, чего им сделается, — солидно пробубнил Савушкин.
— Бить только по «огнеметкам». Понял?
— Так ведь соображаем. Вон две уже устряпали. Сам, поди, видишь…
— Не «соображаем», а это приказ! — неожиданно зло заорал Вахромеев. Ему показалось, что Савушкин, по своему обыкновению, что-то жует. Будто чавкает в трубку. — Каждый снаряд только по огнеметным танкам! Приказываю выбить! Не выполнишь приказ, расстреляю!
— Да что ты, ты чего… — испуганно глотая слова, зачастил Савушкин, потом спохватился: — Будет исполнено, товарищ капитан! Как есть изничтожим «огнеметки». Не пустим!
Помогло. Вскоре остановился еще один огнеметный танк. Закрутился на месте другой, пытаясь сбить пламя с кормы, и вдруг взорвался — вспух огромным зеленокрасным шаром, который лопнул, брызгая вокруг свою ядовитую горючку. От нее, видать, тотчас же занялся, засмолил ближний «тигр».
И вот тут началось!
Нежданно-негаданно, неизвестно откуда высотку накрыл минометный шквал. Земля поднялась дыбом и так и не опускалась, повисла в воздухе, вздымаемая новыми и новыми залпами мины ложились кучно, почти точно, высота наверняка была пристреляна заранее.
Падая в окоп, Вахромеев успел подумать, что это, вероятно, заготовленная немцами последняя оплеуха, под прикрытием которой танки должны выйти на рубеж решающего броска, прямо перед высотой.
В воздухе еще клубилась пыль, поднятая взрывами мин, а он уже бежал вдоль склона, спотыкаясь и падая в неглубокие воронки. Он спешил к бронебойщикам, потому что теперь они оставались единственной, чего-нибудь стоящей силой, способной остановить или хотя бы задержать танковую ораву. Позиции Савушкина, сразу накрытые минометами, уже давили, утюжили «тигры».
Однако к бронебойщикам он так и не добрался, на полпути, у второй линии окопов, его подбросило взрывом. Придя в сознание, он сразу хватился планшета и каски — их при нем не было. Потом его кто-то потянул за ноги, бесцеремонно поволок прямо через колючие кусты терновника. Сдернул в полузаваленный окоп, посадил, прислонил.
Это был Афонька Прокопьев. Измазанный, без кровинки в лице, он что-то торопливо, испуганно говорил, в ужасе закатывая глаза, однако Вахромеев ровным счетом ни черта не понял. Он оглох, в ушах стоял сплошной тягучий звон.
А танки уже ползли на высоту. Навалившись на бруствер, Вахромеев почти равнодушно наблюдал, как они перестраиваются на ходу, как юрко занимают свои места в шеренге огнеметные танки — четыре уцелевших. Он понимал, что через несколько минут все будет кончено и тогда немцы, оседлав высотку, дадут чесу соседней дивизии: отсюда хорошо просматривается и село на магистральном шоссе и даже крупная железнодорожная станция. Все будет по науке: «В бою кто выше — тот и бьет».