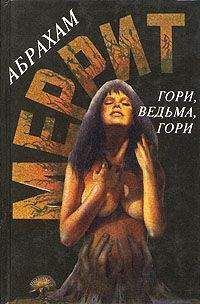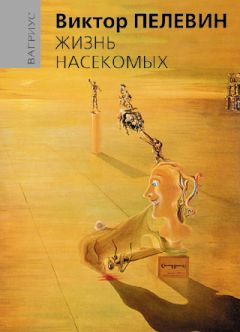каблуков.
Когда он вышел из комнаты, оказалось, что у противоположной двери столпились трое девушек. Одна из них заглянула внутрь и резко завизжала, прикрыв рот рукой. Из-за их спин он не мог видеть, что творится в комнате — только чьи-то грязные сапоги на кровати.
— Убили! — крикнула девица.
И обернулась на Гуляева с лицом, полным ужаса.
— Это он! — заверещала другая.
Наконец Гуляев смог увидеть, что творится в комнате.
На залитой кровью кровати лежал с простреленной головой Аксель Вебер, неприлично трезвый офицер.
* * *
Из письма Марии Гуляевой на фронт, июнь 1942 года
Дорогой Ванечка!
С марта ничего не пишешь. Мы очень переживаем. Новости с фронта поступают плохие, верим, что ты жив и сражаешься за нас с Лёшенькой.
С Лёшей все хорошо, переболел краснухой, очень переживала, но сейчас он здоров. Показываю ему твои фотокарточки.
Сама сейчас, в Ташкенте, много работаю, шью форму для армии. Все руки в мозолях, да и постарела за эти месяцы как на годы, шучу, что приедешь и не узнаешь, захочешь новую жену.
Вспоминаю сейчас наше знакомство, какой ты был милый и прекрасный, очень хочется снова увидеть тебя таким же. Но, боюсь, война сильно изменила тебя, как и меня, как и нас всех.
Помню, как мы хотели в кино, но заболела мама, а ты приехал к нам и накопал мешок картошки.
Хочу верить, что мы увидимся и снова будем счастливыми, как прошлым летом.
Сколько всего за год пережилось! И это переживется, милый.
Сражайся, пожалуйста, и возвращайся живым. Лёшенька ждет тебя, наверное, совсем не признает, спросит: «Что за дядька непонятный приехал?»
Все очень верим в тебя
Люблю, целую.
Маша.
Когда гестаповцы вели скрученного Гуляева через бар, Фролова и Бурматова нигде не было; либо развлекались с девицами, не услышав выстрел, либо их тоже забрали. Гуляев ничего не соображал, все это казалось продолжением безумного сна.
— Это не я! — говорил он. — Господа, это не я, я лежал на кровати и потерял сознание. Цвайгерт! Ищите Цвайгерта! Он был здесь, у него был пистолет…
Гестаповцев было двое, один низкорослый и рябой, в клетчатом пиджаке, другой белобрысый и с маленькими свинячьими глазками, в одной рубахе. Алкоголем от них не пахло. Прибежав на второй этаж кабака и увидев происходящее, они без промедления приложили Гуляева лицом к стенке и защелкнули на его запястьях наручники.
— Дожили, — сказал рябой. — Русские наших в собственных кабаках стреляют. Пьянь чертова.
— Он еще и обнюхался своим носом свиным, — сказал белобрысый. — Что, дерьмо, совсем от рук отбился? На фронт обратно не хочешь?
— Послушайте меня… — попытался объяснить Гуляев.
И тут же получил кулаком в нос.
Брызнула кровь.
Вдалеке ревела сирена — владельцы заведения уже вызвали криминальную полицию.
На улице похолодало и стемнело, свет в городе почти нигде не горел, только рокотали в небе моторы истребителей, и фары полицейского «фольксвагена» выхватывали из темноты брусчатку дороги.
У машины уже стояли двое полицейских в двубортных шинелях и серых шако с коричневыми козырьками.
Следом приехала еще одна — из нее вышли четверо в гражданском, сразу пошли внутрь кабака.
Гуляева запихнули на заднее сиденье авто, где уже сидел хмурый седоволосый мужчина в бежевом пальто и в шляпе. Один из полицейских остался снаружи, и они долго спорили о чем-то с рябым гестаповцем.
Полицейский возмущался и показывал документы, рябой качал головой. Вздохнув, тот вернулся к машине и уселся на переднее кресло.
— Трогай, — сказал он водителю. — Гестапо хочет, чтобы им отдали.
Гуляев испуганно взглянул на седоволосого в пальто. Тот ничего не говорил.
— Я не понимаю, что произошло, — сказал Гуляев. Седоволосый промолчал.
Машина тронулась по ночной Принц-Альбрехтштрассе. Гуляев знал, что ехать недолго, отдел всего в квартале.
Страшно колотилось сердце, немели руки, опухал разбитый нос.
— Я действительно не понимаю, — лепетал Гуляев. — Я просто потерял сознание.
Полицейский, сидевший спереди, раздраженно ответил:
— Похрюкай!
До отдела ехали молча.
Гуляева заперли в одиночной камере, четыре на четыре метра, с железной скамейкой и без туалета. С потолка свисала слабо мерцающая лампочка с ржавым плафоном.
Наручники сняли, на запястьях остались красные полосы.
Когда закрылась дверь, Гуляев рухнул на скамейку и схватился руками за голову.
Опьянения как и не было вовсе.
«Что все это было, черт возьми, и чем все это закончится?» — подумал он и утер наконец кровь из носа, заливавшую губы.
В коридоре топали сапоги, лязгали тяжелые двери, кто-то пьяный пел по-итальянски.
Гуляев вспомнил: а ведь это оказался первый за месяц вечер, когда он лежал на мягкой пуховой кровати. До этого только однажды удалось, в гостях у милой барышни в Берлине. Барышня, правда, не осталась с ним, а ушла пить с офицерами. Зато хоть выспался на мягком.
Он вспоминал плен. Соломенные подстилки лагеря в Боровичах, который поначалу казался раем по сравнению с Волховским котлом, но на третий месяц отношение стало хуже, а еды меньше. Потом отправили под Витебск, еще два месяца, там уже были деревянные нары, но обращение — настоящий кромешный ад.
А потом…
Сказать себе «да», шагнуть вперед после речи агитатора РОА — что может быть проще?
«Я», — именно так он это сказал, на самом деле агитатор спросил: «Кто еще?», и Гуляев ответил: «Я», а прозвучало как немецкое «да».
И в начале февраля — долгий поезд в Берлин. Спать приходилось на полу, дрожа под стук колес, прижавшись друг к другу под шинелями.
Условия в Дабендорфской школе пропагандистов РОА тоже не баловали. Необустроенный лагерь на триста человек с колючей проволокой, семь бараков, двухъярусные кровати. Зато тепло. Зато почти свобода, неограниченный отпуск для офицеров. И нормальная еда. И немецкая форма.
А самое главное — никто больше не бил и не издевался. Да, это был сущий рай.
По прибытии в Дабендорф его, как бывшего учителя, идеально владевшего немецким, тут же назначили вести политические занятия. Изучал воззвания Власова, общался с немецкими офицерами, помогал редактировать статьи в «Зарю», вместе писали тексты. Очень здорово помогал идейно подкованный Фролов.
Что теперь будет с этой «почти свободой»…
Опять в лагеря? Или тюрьма? Или смерть? Может, фронт?
Лучше, конечно, фронт.
Опять вспомнил сон в борделе и черное, распухшее лицо вонючего Клауса.
И другого мертвого немца — Акселя Вебера, лежавшего с простреленной головой на окровавленной кровати.
Кто, как, почему…
Может, и правда он, Гуляев, сделал это в пьяном угаре? Вебер вел себя мерзко. Оскорблял, называл свиньями. Заслужил.
Цвайгерт…
Куда он