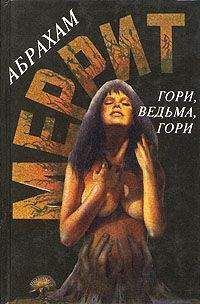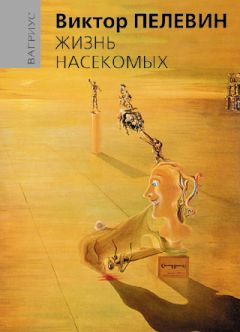от него.
Вот откуда этот усилившийся запах.
Бесформенное темно-коричневое лицо облепили мухи, из-под черных опухших губ торчали оскаленные зубы, и безобразно раздулось под кителем тело. Наверное, из разведки, убит дня три назад. Не смогли утащить…
Может, у него есть спички?
Иван на четвереньках пополз к трупу.
Сначала боялся прикоснуться, потом нашарил ветку и ткнул в раздутую щеку. Мухи с жужжанием взвились над телом. Показалось то, что раньше было лицом.
Воняло страшно.
Гуляев дотянулся до наружного кармана кителя — хорошо, что тот уже был расстегнут — и сунул в него руку.
Шарил внутри осторожно, чтобы ненароком не коснуться самого немца; отчего-то у Гуляева до сих пор осталось это отношение к мертвечине, не то брезгливое, не то благоговейное, не то боязливое — а вдруг проснется и схватит за руку своими гнилыми пальцами.
Спичек не нашел.
Во втором кармане пальцы ухватили что-то тонкое, кажется, фотокарточку.
Вытащил.
С карточки улыбалась красивая немецкая блондинка в крестьянском платье. Какая-то актриса? Жена? Сестра?
Перевернул. Что-то написано по-немецки, но все размыто, ничего нельзя прочитать, кроме «любимому Клаусу».
«Любимому Клаусу, значит. Что ж у тебя спичек-то нет, любимый Клаус?» — Иван со злобы смял папиросу и швырнул в траву. Немедленно пожалел и выругался.
Вдалеке что-то грохнуло и тут же просвистело над головой. Гуляев рефлекторно вжался в землю. Разорвалось совсем близко, оглушило, присыпало землей и ветками.
«Да зачем же они бьют так, — подумалось ему, — какой уже смысл, тут же теперь приходи и бери голыми руками!»
Гуляев перевернулся на спину, глубоко вдохнул. В ушах звенело. Небо слепило глаза сквозь обгоревшие ветки деревьев.
Жужжали мухи, и страшно вонял Клаус. Теперь не любимый, а просто вонючий.
Иван задумался, о чем он вспомнит, когда будет умирать.
О чем?
Как час назад их накрыло минометным огнем и от девяти человек остались трое? «Сколько их погибло, как же их, да — Каримов, Бабяк, Панкратов, Лосев, Милютин, Денисов… Денисова жаль, черт, да всех жаль. Может, и удалось бы выйти».
Или раньше — как позавчера делили с Русановым («Как он там, дошел ли до позиций?») кашицу из березовой коры.
Или раньше — как прошел слух, будто есть новый коридор в районе Керести, и третий взвод с лейтенантом Кравцовым ушел на разведку, да так и пропал.
Или раньше, лучше еще раньше — зиму, когда он прищучил полковника Ильинского. Потом выяснилось, что его расстреляли. «Наверное, все же неправильно это было. Но за дело ведь прищучил, за дело! Мундир пропить, надо ж умудриться».
Или еще, еще раньше — как сразу с курсов комсостава — на фронт, еле успел попрощаться с Машкой и с сыном, ему всего месяц, и напутствовал немедленно мчать в Ташкент.
Или как маму отправил в эвакуацию, еще раньше, как только подошли немцы. Последнее письмо было в марте.
Или еще раньше… А что еще раньше? Как детишек в школе под Красногвардейском [8] немецкому учил. Смешно, конечно. Немецкому.
Закрывались глаза, и не хотелось ни о чем больше думать.
Вспомнилось совсем недавнее — эти листовки, да, эти смешные листовки, которые немцы сбрасывали с воздуха.
Ваша борьба бесполезна! Разве это допустимо, чтобы ваше начальство из упрямства все еще беспощадно гнало вас на верную смерть? Переходите к немцам, там вас ждет достойное обращение и пропитание!
«Хорошее обращение и пропитание… Ну-ну». — Гуляев облизнул пересохшие губы.
Эти листовки они сжигали. Кто-то оставлял у себя. Даже из его взвода оставил один парень.
Гуляев вспомнил, как нашел у него эту листовку на вечернем смотре. Пообещал не докладывать начальству. За это боец поделился с ним пайком.
Погиб потом, в конце мая.
Была еще и другая листовка, на ней было нарисовано, как немцы делятся с пленными красноармейцами хлебом и папиросами.
Гуляев посмотрел на вонючего Клауса. Его лицо опять облепили мухи.
«Будем соседями», — подумал он.
Тяжелели веки, закрывались глаза. «Может, так и умереть?»
Из забытья его вытащил чей-то хриплый голос.
— Это ж Гуляев! Живой! Уснул, наверное… Эй!
Он приоткрыл глаза.
Это шли парни из пятого взвода. Семеро. Ободранные, тощие, небритые. Они брели в сторону немецких позиций. Один из них держал над головой белое полотнище из обрезанного исподнего.
— Вы что? — пролепетал Гуляев. — Сдаваться?
Тот, что разбудил его голосом, хмуро кивнул.
Второй, как бы извиняясь, несмело сказал:
— Что еще делать, товарищ старший лейтенант. Вы с нами или как?
— Да ну вас на хер, — огрызнулся Гуляев.
Боец понимающе кивнул, и они двинулись дальше.
Гуляев взглянул на остатки смятой папиросы в траве.
И тут же, вздохнув, громко сказал:
— Стоять! Помогите подняться.
Его взяли под руки, помогли встать. ППШ поднимать не стал. Побрели вместе.
Через двадцать минут вдалеке зазвучали винтовочные хлопки.
Тот, что шел спереди, поднял высоко над головой белое полотнище и заорал что было сил:
— Нихт шиссен! Нихт шиссен!
В зелени деревьев замелькали люди в серой форме.
Приближалась немецкая речь.
И Гуляеву вдруг отчетливо показалось, что где-то это уже было.
Но где? Где и когда?
Точно было. Именно эти крики, этот лес, эти немцы, это белое полотнище, и вот он точно так же поднимает руки…
— Стоп-стоп, — забормотал он. — Ведь все это было. Было!
Он испуганно оглядывался, бойцы недоуменно смотрели на него.
— Ты это… Держись, — сказал кто-то рядом. — Теперь все закончится.
— Нет-нет, — он испуганно замотал головой, — все только начинается.
Ему хотелось опустить руки и побежать назад, сильно заколотилось сердце, он уже видел и слышал все это, и эти слова «держись», и этих немцев, которые уже держали их на прицеле, и этот крик «бросайте оружие»…
Все это уже произошло.
И это можно было изменить прямо сейчас.
Если бы не попросился с ними. Если бы ушел с Русановым.
Теперь поздно.
Он открыл глаза и увидел в бордовом свете потолок с роскошной белой лепниной. На стене висел охотничий гобелен.
Гуляев лежал на кровати в расстегнутом немецком кителе. Вдалеке играла музыка из патефона.
Дверь в комнату была распахнута.
Из коридора грохнул выстрел.
Гуляев подскочил на кровати, ничего не понимая: «Это сон? Что вообще случилось? Какой выстрел? Был Цвайгерт, и он стрелял… — Ощупал лоб. — Глупость какая-то. Была какая-то страшная церковь и говорящий червь, а потом Волховский фронт, и эти воспоминания казались такими реальными, будто все это произошло буквально только что, пару минут назад. А этот выстрел сейчас? Тоже показалось?»
Гуляев встал с кровати и пошел к открытой двери, застегивая на ходу китель. По коридору послышался топот