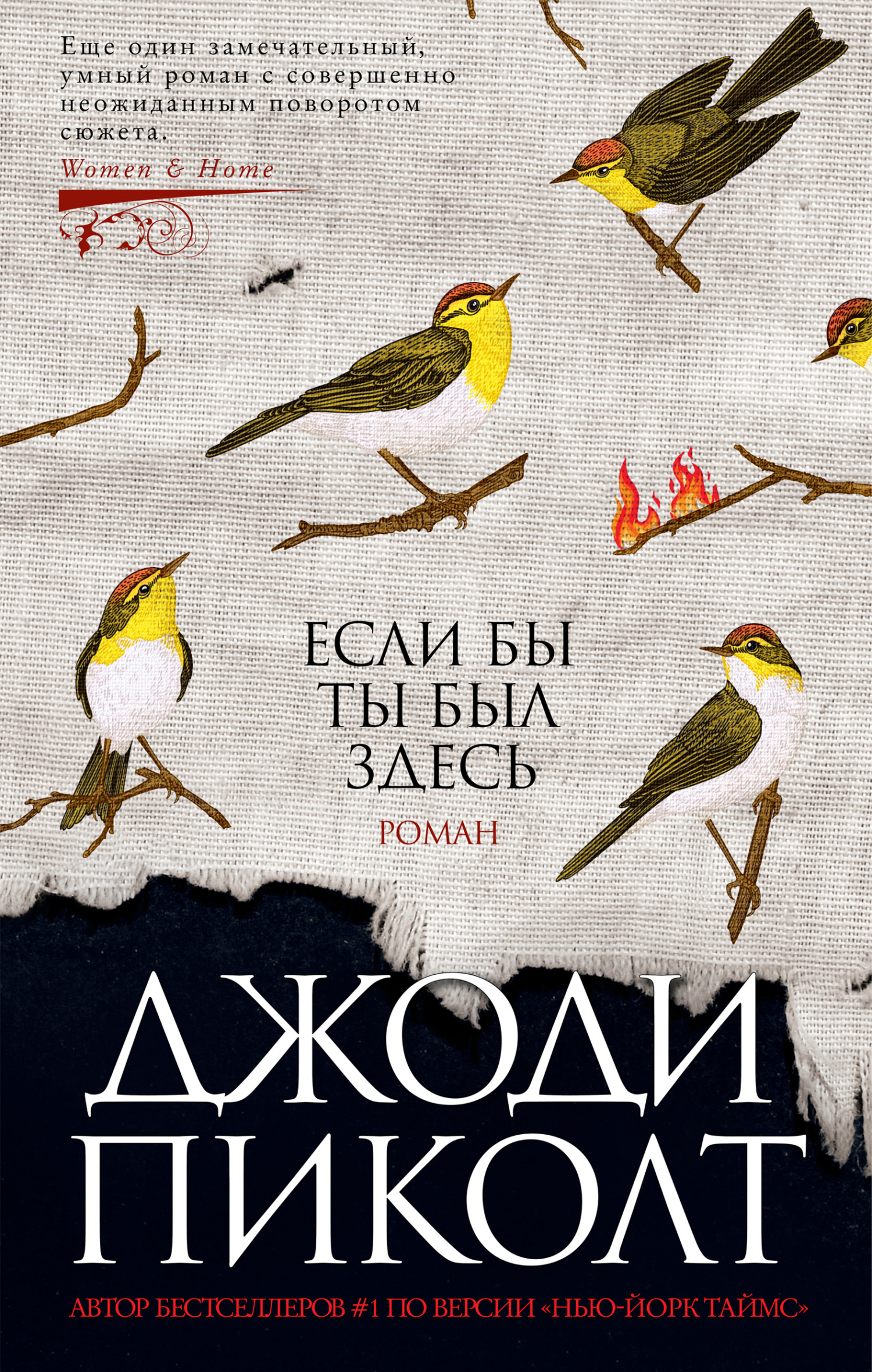всего, что мне приходилось делать в зале суда. В начале этих слушаний, мистер Александер, вы сказали, что никто из нас не обязан входить в горящий дом и спасать захваченного пламенем человека. Но все меняется, если вы родитель, а в горящем доме находится ваш ребенок. В таком случае вас не только поймут, если вы броситесь на выручку, от вас будут ожидать подобных действий. — Я делаю глубокий вдох. — В моей жизни этот дом полыхал много раз, а внутри его находилась одна из моих дочерей, и единственным способом спасти ее было отправить туда вторую дочь, потому что только ей был известен путь к выходу. Знала ли я, что рискую? Разумеется. Сознавала ли, что это может привести к потере обеих? Да. Понимала ли, что просить Анну делать это несправедливо? Без сомнения. Но, кроме того, я знала, что это единственный шанс сохранить их двоих. Было ли это законно? Было ли это морально? Безумно, глупо или жестоко? Я не знаю. Но считаю, что это было правильно.
Закончив, я сажусь за свой стол. Справа от меня окно, по нему лупит дождь. Прекратится ли он когда-нибудь?
Я встаю, смотрю на свои карточки и, как Сара, отправляю их в мусор.
— Как только что сказала миссис Фицджеральд, суть этого дела не в том, отдаст ли Анна почку. И речь здесь идет не о донорстве вообще — отдаст ли она хоть одну клетку кожи, крови, цепочку ДНК. Речь идет о девочке, которая находится на пике взросления. Тринадцатилетней девочке, а это само по себе тяжело, болезненно, прекрасно, сложно и захватывающе. Девочке, которая, вероятно, сама не знает сейчас, чего хочет, не понимает, кто она, но заслуживает шанса на то, чтобы понять это. Через десять лет, по-моему, она будет восхитительной. — Я подхожу к судье. — Мы знаем, что Фицджеральдам предложили сделать невозможное — дать информированное согласие на лечение за двоих детей, медицинские интересы которых не совпадали. И если мы, как Фицджеральды, не знаем, каково правильное решение, значит точку в этом споре должен поставить человек, которому принадлежит тело… даже если ему всего тринадцать лет. И в конечном итоге мы разбираем здесь вопрос о том, с какого момента ребенок может решать за себя лучше, чем родители. Я знаю, начать этот процесс Анну подвигли не одни только эгоистические соображения, чего вполне можно ожидать от тринадцатилетнего подростка. Она пошла на это не потому, что хотела быть такой же, как другие дети ее возраста. И не потому, что ей надоело терпеть уколы и все прочее. Она решилась на это не из страха перед болью. — Я с улыбкой поворачиваюсь к Анне. — Знаете что? Я не удивлюсь, если она в конце концов отдаст сестре почку. Но я не считаю это главным. Судья Десальво, со всем должным к вам уважением, но вы тоже не считаете это главным. И Сара, и Брайан, и сама Кейт. А важно то, что думает Анна. — Я подхожу к своему месту. — И это единственный голос, к которому мы должны прислушаться.
Судья Десальво объявляет перерыв на пятнадцать минут, чтобы вынести решение, и я использую это время на прогулку с псом. Мы кружим по маленькому квадрату зелени позади Гарраи-комплекса. Верн следит за ожидающими вердикта журналистами.
— Давай уже, — говорю я, когда Джадж заходит на четвертый круг в поисках нужного места. — Никто на тебя не смотрит.
Но это оказывается не вполне верным. Малыш лет трех или четырех бросает свою маму и несется к нам.
— Собачка! — кричит он, раскидывает руки в горячке погони, и Джадж подступает ко мне.
Через мгновение ребенка нагоняет мать.
— Простите. Мой сын проходит стадию увлечения собаками. Можно нам его погладить?
— Нет, — автоматом отвечаю я. — Это собака-поводырь.
— О! — Женщина выпрямляется, оттаскивает своего сынишку. — Но вы не слепой.
Я эпилептик. И это моя припадочная собака.
Думаю, не сказать ли хоть раз правду. Но нужно же уметь и посмеяться над собой, верно?
— Я адвокат, — сообщаю я незнакомке с милой улыбкой. — Пес гоняется для меня за машинами «скорой» [42].
Мы с Джаджем уходим, я насвистываю.
Судья Десальво появляется в зале, держа в руках рамку с фотографией своей погибшей дочери, и я сразу понимаю, что проиграл дело.
— Одна вещь поразила меня во время заслушивания свидетелей, — начинает он, — это то, что все мы, находящиеся здесь, вступили в дискуссию относительно качества жизни в противоположность ее святости. Разумеется, Фицджеральды не сомневались в том, что сохранить Кейт живой и частью семьи — это главное. Но в этой точке святость жизни Кейт полностью переплелась с качеством жизни Анны, и моя задача — разобраться, можно ли их разделить. — Он качает головой. — Не уверен, обладает ли кто-нибудь из нас достаточной квалификацией, чтобы решить, какая часть этой пары важнее, и меньше всего я сам. Я отец. Моя дочь Дена погибла по вине пьяного водителя, ей было двенадцать лет, и когда в тот вечер я примчался в больницу, то готов бы отдать все на свете, лишь бы она еще хоть на день осталась со мной. Фицджеральды провели в этом состоянии четырнадцать лет — когда их просили отдать все ради жизни дочери. Я уважаю их решения. Я восхищаюсь их смелостью. Я завидую тому, что у них была возможность проявлять эти качества. Но, как заметили оба адвоката, речь в этом деле больше не идет об Анне и почке, мы говорим о том, как должны приниматься эти решения и как нам определить, кто будет их принимать. — Он откашливается. — Вывод такой: хорошего ответа тут нет. Как родители, врачи, судьи и общественность, мы разбираемся второпях и выносим решения, которые позволяют нам спать по ночам, потому что правила морали важнее этических, а любовь важнее закона.
Судья Десальво обращается к Анне, которая стыдливо ерзает на своем месте.
— Кейт не хочет умирать, — мягко произносит он, — но и жить так она тоже не хочет. Зная это и зная законы, я могу принять только одно решение. Единственный человек, которому будет позволено сделать выбор, — это тот, кто находится в самой сердцевине проблемы.
Я тяжело выдыхаю.
— И я имею в виду не Кейт, но Анну.
Она сидит рядом со мной и резко втягивает ноздрями воздух.
— Один из вопросов, поднятых в последние дни, таков: способен или нет тринадцатилетний подросток делать осмысленный выбор в столь сложных ситуациях, как эта. Я возражу. По-моему, возраст оказывает наименьшее влияние на основы понимания. Вообще, кажется, некоторые из присутствующих здесь взрослых забыли простейшее детское