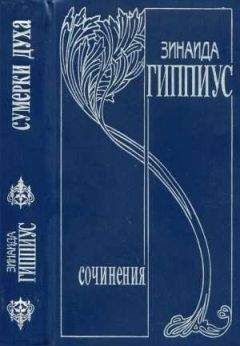Но в минуты наибольшей близости и, казалось, полной веры – в душе являлась боль, еще темная, как предчувствие. Счастья нет, но счастья и не должно быть. Должно быть спокойствие… его нет, есть темная, хотя не сильная боль.
Они шли утром, накануне отъезда, по жаркой улице, недалеко от курзала. Люди, самые разнообразные, поминутно толкали их, встречаясь на узком тротуаре. Маргарет была весела и болтала.
– Мне показалось, что это один мой петербургский знакомый, – сказал Шадров. – как я рад, что не он.
– Отчего рад? Ты боялся бы встретить кого-нибудь, кто нас знает? Ты разве стыдишься меня? Ты ни за что не назвал бы меня никому своей женой?
– Конечно, да. Так и будет в Петербурге. Когда станет возможно – мы обвенчаемся. Это ничего не прибавит к нашей любви, но всякое выражение, всякая форма, даже совсем внешняя, любви – мне нравится. Если б ты знала, Маргарет, какие глубокие слова произносятся при венчании! Они кажутся простыми, говорят о повиновении, о детях, но они глубже этого. Мне неприятно думать, что я слышал их тогда, давно, не слушая, и в обмане. Это нехорошее воспоминание, я был не прав.
– А где теперь Нина Авдеевна? – спросила Маргарет, помолчав.
Она в первый раз спросила о ней.
– Не знаю. Кажется, опять в России.
– Она… тогда, помнишь? Она говорила со мною не так, как ты. Совсем иначе. Я была как в тумане, я думала, что она права. Нет, я ее не люблю! Все-таки она уверена, что она твоя жена, а не я! Напиши ей обо всем.
Шадров улыбнулся капризному тону Маргарет и прижал тонкую ручку, которая на него опиралась.
– О, как жарко! Пойдем домой. Что это? Кто это? Посмотри! Скорее, вон там, вдали!
Она вдруг рванулась вперед. Шадров удержал ее. На противоположном тротуаре он заметил высокую фигуру старика в черном. В первую минуту ему показалось, что это мистер Стид. Но это был не мистер Стид. Старик завернул за угол и скрылся.
– Ты ошиблась, Маргарет… Ты видела, что ты ошиблась? Куда ты так бежишь?
– Нет… ничего… Да, это мне показалось. Но это совсем другой. Зачем ему… здесь?
– Ну, какая ты нервная. Это нехорошо. Пойдем домой.
– Нет, видишь ли… Мне сегодня снилось, и так дурно… Он меня упрекал… Может быть, он болен, – прибавила она тихо, точно про себя.
Они как раз проходили мимо серого, большого здания почты, с гигантской, тяжелой дверью. Кто-то отворил ее, дверь хлопнула, оттуда пахнуло холодом, точно из могилы.
Маргарет вдруг остановилась, упорно, невольно. В лице ее не было никакого выражения.
Шадров снял со своей ее руку, сильно, почти грубо взял ее выше кисти и пошел через улицу, быстро, в здание курзала с другой стороны.
Маргарет повиновалась без слов. Лицо ее по-прежнему ничего не выражало.
Они миновали стеклянную галерею, коридор, несколько комнат и вошли в длинную, высокую, темноватую залу с блестящим полом, с легкой мебелью кругом. Это были залы когда-то игорного дома, пышные и веселые. Но рулетку давно уничтожили, и залы теперь были молчаливы, прохладны и пустынны.
Шадров миновал всю залу и опустился, в дальнем углу, на узенький бархатный диван. Они оба молчали.
– Маргарет, скажи мне…
– Что? – быстро и живо спросила она. – Что ты хочешь?
– Ты сердишься? Но вспомни… И я хочу знать…
– Тебе нечего знать. Ничего нет. О, зачем ты опять меня мучаешь! – вдруг вскрикнула она горестно. – Зачем ты спрашиваешь? О чем? Я ничего не знаю, я только люблю тебя, верю тебе, хочу тебя любить… Возьми меня отсюда, укрой меня, увези…
Он успокоил ее, как мог. В этот день они уже не выходили. Дмитрию Васильевичу казалось, что никогда еще Маргарет не любила его с такой полной и совершенной силой. Она почти чудесно угадывала еще не произнесенные слова, мысли, едва отразившиеся в глазах. Никогда не были они ближе, но никогда еще тайная, темная боль не поднималась со дна души так упорно.
День кончился, минула ночь, наступило утро.
VII
– Представь себе, Маргарет, какая досада! Билеты я взял, все готово, а денег, оказывается я здесь не могу получить! Сколько времени этот чек лежит у меня, и до последней минуты я не собрался взглянуть, на какой он банк! Я еще в Берлине его получил. Надо ехать во Франкфурт раньше вечера, теперь, сейчас, чтобы до восьми часов, когда идет оттуда наш поезд на Берлин, успеть взять деньги. Иначе мы не доедем. И так не знаю, успеем ли. Может быть, банк рано закрывается. Во всяком случае надо торопиться. Через полчаса идет поезд.
Дмитрий Васильевич был ужасно озабочен и огорчен этими непредвиденными осложнениями. Вечно с ним что-нибудь случится! Не годно ли теперь, в эту жару, ехать во Франкфурт за шесть часов до отхода берлинского поезда и бегать там по неизвестным банкам! Он был обижен, как ребенок, и внутренне улыбался, что такие пустяки могут его искренне огорчать.
– Ты будешь готова, Маргарет?
– Но это невозможно! Подумай, мы даже еще не рассчитались здесь! Нужно сказать хозяйке, – пройдет по крайней мере час. И я даже не начинала укладываться. К шести только принесут белье. Останемся еще на день.
– Милая, у нас билеты на сегодня в спальном вагоне. Хочешь, я помогу тебе уложиться? Мое все готово… Да нет! Теперь действительно не успеть.
– А мы наверное не доедем без этих денег?
– Немыслимо. Деньги нужно взять. Но это пустяки. Я просто поеду во Франкфурт сейчас – езды всего двадцать минут – и отправлюсь в банк; а ты уложишься, рассчитаешься здесь и приедешь в шесть часов. Мы успеем еще пообедать на вокзале.
– Ты хочешь, чтоб я осталась здесь до шести часов?
– Да, иначе нельзя. Что с тобою, Маргарет? Ты не хочешь остаться? Не бойся, я не уеду из Франкфурта, не дождавшись тебя! Милая! Как же быть? Не пугай меня, Маргарет! Отчего у тебя такие странные глаза? Ну, я не поеду.
– Какие пустяки! Если надо, то поезжай. Мне стыдно, что я так боюсь остаться без тебя на полчаса. Я не хочу! Это стыдно так любить… Не слушай меня, поезжай. Ведь ты веришь, что я тебя люблю? Да? Скажи?
– Конечно, верю, – сказал Дмитрий Васильевич, глядя на нее внимательным взором. – Маргарет… мы не должны ничего бояться. Ты – человек, мне равный, я тебе отдал мою душу. Ты знаешь все, что я думаю. Я не хочу никакого страха, никаких случайностей между нами, я хочу тебя сильной и разумной. Слишком все это серьезно.
Она обняла его с открытой улыбкой.
– Поезжай, будь спокоен, я уже не боюсь. Разве я не знаю сама, как это серьезно – то, что было, то, что будет между нами? Я не хочу ничего бояться. И чего? Я бы и сказать не могла. Но скорее! Ты опоздаешь. Ты оставил деньги, чтоб заплатить по счету? Хорошо. Возьми свои вещи. Мне будет достаточно возни с моими. В большой зале, к половине седьмого! Я сейчас же начну укладываться.
Он собрался в пять минут.
Маргарет довела его до двери, заботливая, вся тоненькая, в длинном розоватом капоте, с неприглаженными кудрями. Он поцеловал ее, почувствовал, что опоздает, если поцелует столько раз, сколько ему хочется, и торопливо сказал:
– Помни же Грета, – в большой зале! Я буду направо. Ради Бога, не опоздай! А то я прилечу сюда, мы разъедемся – и выйдет чепуха. До свиданья, милая.
Он был уже на лестнице и сбегал вниз, когда она вдруг окликнула его.
– Что, ты забыла что-нибудь?
– Нет, вернись.
– Ну, что? Что, моя девочка? Хочешь поехать со мной?
– Да… – прошептала она, глядя на него испуганными, детскими глазами. – Я опять боюсь… я даже не знаю – чего…
Он хотел войти в комнату и остаться, но она вдруг засмеялась совсем искренне.
– Фу, какая я глупая! Право, ты меня разлюбишь. Иди, иди! Какой стыд! Я хуже маленькой девочки. Помни, что я тебя люблю.
Во Франкфурте было вдвое жарче, нежели в Гогенвальде. Дмитрий Васильевич, оставив вещи на вокзале, отправился искать банк. Он искал его долго, наконец нашел, в ту минуту, когда его хотели запирать. Начались разговоры, непонимание друг друга, формальности, неожиданные затруднения… Наконец все уладилось. У Дмитрия Васильевича мучительно болела голова, ему хотелось пить. Улицы Франкфурта, пустые и прямые, облитые солнечным пламенем, были ему невыносимы. Он взглянул на часы и заторопился на вокзал: часы показывали половину шестого.
Зала была высокая, даже непомерно высокая, темноватая, с какими-то углами и нишами. По ней, даже заставленной столами, шаги раздавались гулко.
Дмитрий Васильевич устроился в правом углу, у небольшого столика. Рядом лежали его вещи. Он, не торопясь, заказал кушанье, спросил красное вино, – его любила Маргарет. Люди приходили и уходили, торопясь, отчаиваясь, заботясь о своих вещах и о том, устроится ли все так, как они себе назначили.
Из левого угла вдруг на всю залу раздался заунывный, надмогильный голос, выкрикивавший с печалью имена станций, куда отходил поезд. Голос раздавался, как в церкви, и уходил под своды.