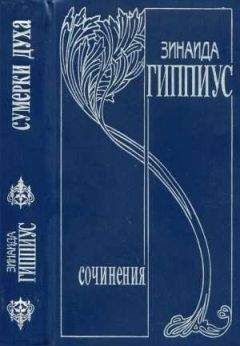– Здравствуйте, мама, – тихо произнес Дмитрий Васильевич, наклоняясь к ней и заглядывая в лицо. – Вот я и приехал. Ну что, как вы? Не соскучились?
Он ждал просвета в глазах, ее обычной и всегда неожиданной улыбки, когда она его узнавала; но глаза не просветлели, улыбки не было. Рука продолжала шевелиться в его руке. Другая лежала на одеяле неподвижно, точно слишком тяжелая.
Стукнула дверь; Дмитрий Васильевич услышал, что вошла Марья Павловна.
– Ну, как? – спросила она, заглядывая в лицо Анны Ниловны.
Шадров обернулся.
– Что с ней? Ей было хуже?
– Да что, все нездорова. Я оттого и писала, чтоб скорее приезжали.
– Я не получал писем, – сказал Шадров. – Давно ли она больна?
– Не получали? – удивилась Марья Павловна, всплеснув полными ручками. – Подите же! А я вам три письма послала, – пост рестант, в этот, как его? ну, забыла, да там у меня записано. Я и о Ваньке рассказывала, а потом и о мамашином нездоровье, и чтобы вы, коли можете, так приехали бы поскорее. Две недели уж будет, а то и больше, как это с ней случилось. Утром, часов в девять. Вижу, совсем нехорошо. Левой рукой все правую трет. Зовешь – молчит. Доктор со станции приехал. Говорит, легонький удар, что ли, был. Да Бог милостив! Она теперь совсем ничего, н кушает. Вот только вставать уж силы нет, и правая рука еще не действует.
– Да на что нам рука! – прибавила она, улыбаясь. – Не работу работать! И так живы будем.
– А узнает она вас?
– Мало теперь. Небось и вас не узнала, а уехали – ведь как скучала! Митя да Митя. Игры никакие не забавляли. А теперь молчит все больше. Станет говорить – так не разберешь ничего. Да что ж! Это пройдет. Доктор говорит – поправится понемногу. Ей, срвнить нельзя, лучше.
Дмитрий Васильевич ниже наклонился, к лицу матери, стараясь уловить в чертах последнее отражение засыпающей души. Глаза ее были открыты, но смотрели не на него, а мимо, не видя его. От тени в комнате они казались бессвет-ными, пустыми, как ночное небо.
– Она, может, заснет, – сказала Марья Павловна. – Там вам кушать подли, с дороги-то. Она заснет.
Дмитрий Васильевич поцеловал коричневую, сухую руку матери медленным и слабым поцелуем и вышел.
Марья Павловна, заваривая послеобеденный чай, рассказала Шадрову про Ваню.
– Я уж так и признаюсь – мой грех. Кто ж его знал! Вот, сидим это мы здесь, так же вот, ночи были светлые, только что перебрались из Петербурга. И Нина Авдеевна приехала. Она такая добренькая, и тогда, весной, была вскоре после вас, и потом, недавно, тоже сюда наведывалась. В Царском живет. Я ей писать о мамаше обещала и о вас, вернулись ли. Так вот, сидим мы с Ниной Авдеевной. Ванька тут ходит, только что из города пожаловал, опять где-то по больницам шлялся. Ужасно он мне тогда надоел, просто зло меня взяло, да и смех. Посмотрела я на него пристально, серьезно, да и говорю: а что, Ваня, ведь ты нехорош. Он так весь и всколыхнулся. Как, говорит, почему? Я Нине Авдеевне мигаю, а сама ему опять: ты вон, как пупавок, желт, прямо оранжевый, да и мурашки у тебя по телу. Я, мол, много больных видала, сама почти что фельдшерица; это очень нехорошо, уж я знаю. И сказала-то в шутку, и только хотела смехом дело кончить, а он шасть тихонько из комнаты, и хоть бы слово. Пошла я посмотреть – лежит у себя в каморке, с головой накрылся, молчит. Ну, думаю, спит. Мне его тогда уж жалко стало. И что ж вышло-то? Утром приходит ко мне, весь дрожит. Взглянула я на него – и ахнула. Словно я ему наворожила. Желтый весь, прежелтый, ну как лимонная корка, глаза даже, и те желтые. Трясется и только молит: в больницу! Его утром Нина Авдеевна в Петербург и отвезла. Сказали там, что желчь разлилась от потрясения. Подите же! Теперь уж давно здоров, да, говорят, все просится не выписывать его. Право, Дмитрий Васильевич, вы бы его в деревню отослали. Там, на работе, он лучше забудется. Да и докторов там нет. Не то совсем сгибнет мальчишка.
– Я его и отошлю, – сказал Шадров. – А вот мне бы того доктора повидать который со станции приезжал. Будет он у вас?
– Будет; он на днях обещался быть. Да вы не беспокойтесь, Дмитрий Васильевич. Ей теперь лучше. Что, не зайдете больше посмотреть? Пожалуй, не ходите лучше: она спит.
IX
Прошло три дня. На четвертый день, утром, Дмитрий Васильевич увидел сон. Ему казалось, что он лежит на своей постели, что темно. Но он все-таки ясно видит круглую печку, в противоположном углу, оклеенную беловатыми обоями. В печке грызутся мыши, или, может быть, одна мышь, большая. Она грызет и стучит так сильно, что бумага обоев шевелится, и нет никакой возможности думать, что она ее не прогрызет. Дмитрий Васильевич знает, что этого нельзя допустить, что он не выдержит, если она прогрызет насквозь, и он ее увидит; надо этому помешать; но он не может двинуться, и не хочет, и ждет; слышно, как мышь отдирает внутри какие-то пленки; стукнет, отдерет и бросит; и слышно, что стенка печки сделалась тоньше, – совсем тоненькая, как лепесток. Сейчас он ее увидит…
«А если это даже и не мышь?» – подумал Дмитрий Васильевич. Ему стало резко холодно, и он проснулся. Все кругом было так же, как и во сне, только не темно, – дождливый день смотрел сквозь шторы, да печка в углу молчала, и обои не двигались. Не было никакого звука, но Дмитрий Васильевич проснулся в ожидании звука и знал, что он будет.
И действительно, в ту же секунду к нему в дверь постучали.
– Можно на минутку? Я уж вас разбужу.
Мария Павловна притворила дверь. Она была, как всегда, чистенько одета и причесана.
– Что случилось?
– Да что, мамаша опять нездорова. Встанете – подите, взгляните. Я уж на станцию послала, где доктор этот живет.
Дмитрий Васильевич оделся и сошел вниз. Больная так же лежала на своей большой кровати, только теперь на одной подушке, низко и плоско. Глаза были открыты, рот еще ввалился, и один угол его слегка опустился. Все лицо, темное и маленькое, казалось еще темнее от белой наволочки. Дышала больная ровно и редко и была очень спокойна.
– Глотать ничего не может, – объяснила Марья Павловна. – Я давала молока – не может пить. Вот доктор приедет – скажем.
Доктор приехал только через два часа, в военной форме, молодой и робкий. Но он стал с необычайным рвением переворачивать и щупать больную. Лицо ее вдруг потеряло спокойствие, сделалось напряженным, угол рта еще больше опустился, и Дмитрий Васильевич услыхал какой-то тихий звук, не то мычание. Он постоял, подождал и вышел в столовую.
Доктор написал несколько рецептов. Сказал, торопясь, что это – удар, что он находит нужным применить искусственное питание, что он сам пришлет сейчас же, с обратным извозчиком, пептон и трубку, и стал пространно объяснять Марье Павловне, что с этой трубкой делать. Марья Павловна слушала его с внимательным и сердитым лицом.
Дмитрий Васильевич хотел спросить доктора, опасна ли больная, но не спросил, а просто дал ему денег, и доктор уехал.
К вечеру, действительно, привезли пептон, но очень мало. Доктор извинялся – у него больше не было – и обещал на другой день прислать больше. Марья Павловна все с тем же сердитым видом посмотрела на длинную трубку, взяла ее и пошла в спальню. Оттуда опять послышалось заглушённое мычанье или стон. Дмитрий Васильевич поднялся к себе наверх.
Эту ночь он спал плохо, и все ему казалось, что он главным образом боится, не приснился бы ему опять тот сон, – с мышью. Сон несколько раз едва-едва не приснился, но все-таки в конце концов Дмитрий Васильевич отогнал его, проснулся окончательно и сел на постели. Было восемь часов утра. Серый, сырой свет лился в окна. 1 Внизу, в столовой, Шадров встретил Марью Павловну. Она была аккуратно причесана, но румянец как будто побледнел немного: она, верно, не спала.
– Ну, что?
– Да все то же. Вот подите, загляните. Дышит спокойно. Только я, Дмитрий Васильевич, ей этого пептону лучше давать не буду. Что в самом деле! За что ее мучить? Это нехорошо.
Больная лежала опять так же, так же редко и ровно дышала, с открытыми глазами, такими темными, точно за ними была пустота, точно там кончался мир. Впрочем, и в комнате было темно от полуспущенных штор, от тусклого, серого дня. Голова лежала на подушке низко и казалась тяжелее, чем вчера, потому что глубже входила в подушку.
Дмитрий Васильевич к полудню пошел наверх и стал ходить там вдоль своих трех комнат – из спальни в среднюю, потом в пустую, потом назад. Тихий, упорный, безветренный дождь падал за окнами, и даже сквозь стекла чувствовалось, как сыро и промозгло там, под мокрыми, жалкими березами. Мокрая, черная ворона грузно села на ветку, хотела каркнуть, не собралась, тяжело зашлепала крыльями и улетела.
Дмитрий Васильевич прислушивался к мягкому скрипу своих сапог, к звукам внизу. Ему казалось, когда он останавливался, что он слышит снизу глубокое и редкое дыханье. Но он прислушивался внимательнее – и уже ничего не слышал.