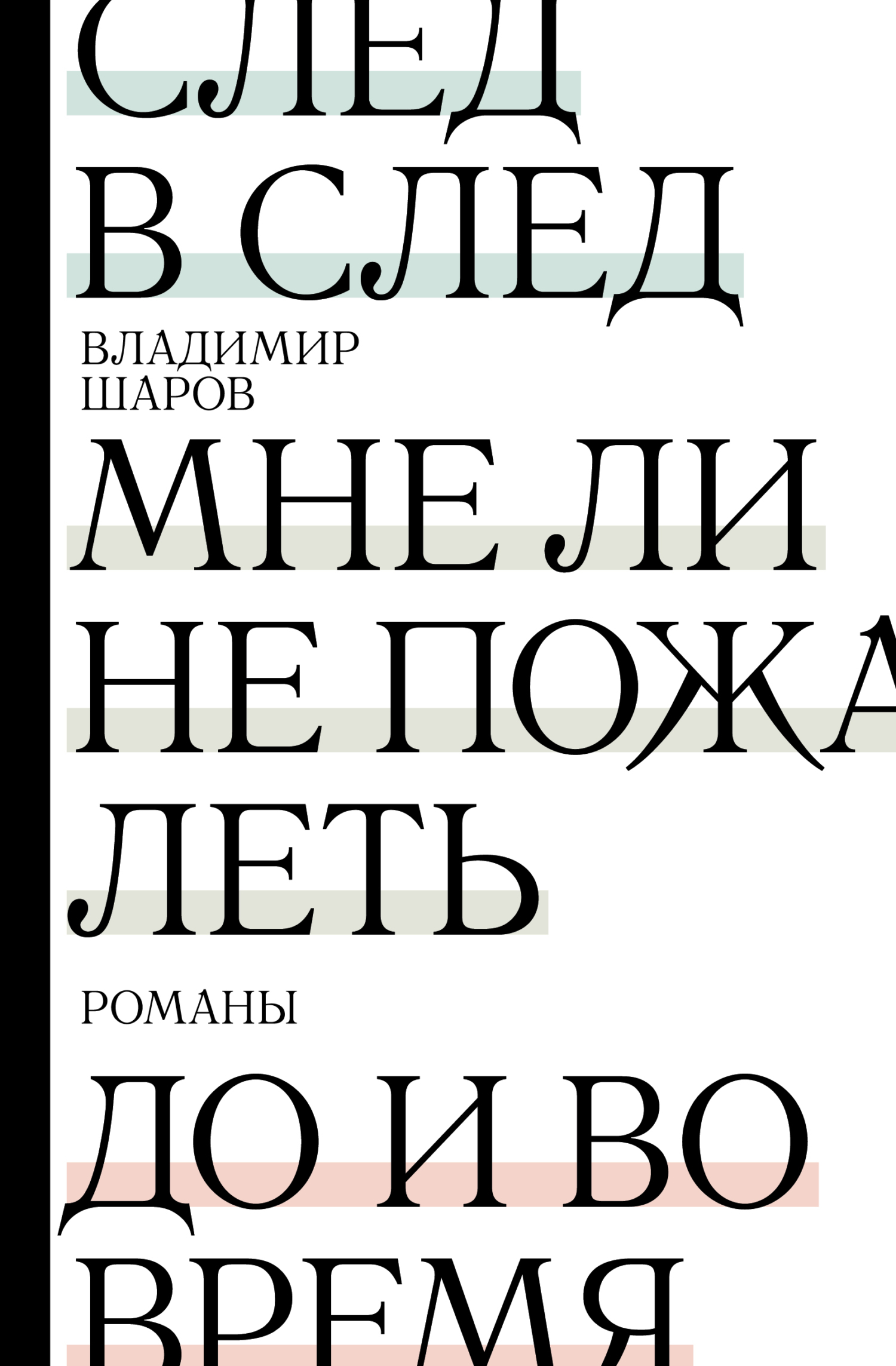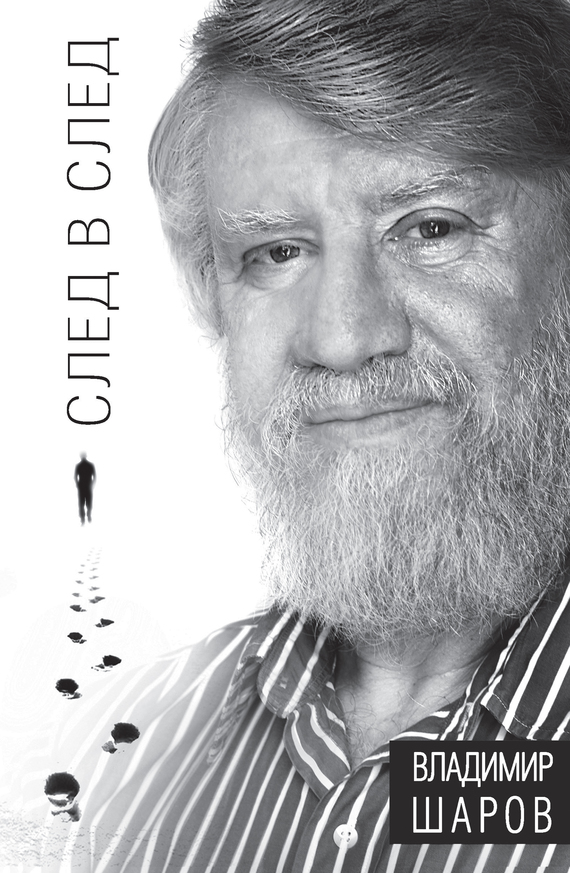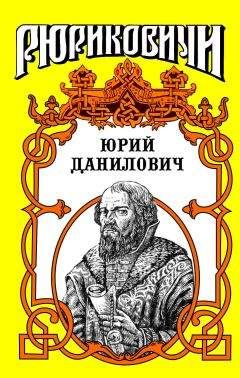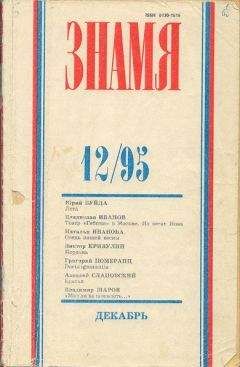обоих было бы хорошо, если бы она сделала его своим любовником, взяла на содержание или даже женила на себе. Но тут было немало разного рода препятствий, и она колебалась, не могла решиться. Она уже давно привыкла жить одна, ни от кого не завися и ни с кем не считаясь, привыкла дорожить своей репутацией, и пойти на то, что всё это сразу будет разрушено, ей было нелегко. Кроме того, она ценила Федорова таким, каким он был, ей нравилось лежать под хрустальным стеклом, нравилось быть Спящей царевной, нравилось, что ее любили как Спящую царевну, она не хотела ничего из этого терять; то есть она была бы рада сделать его своим любовником, но чтобы осталось и то, что было в их отношениях раньше. Как он на нее смотрел, как с ней сидел, как она лежала под ним, лежала совсем рядом от него – и всё равно была для него недостижима и недоступна. Ей по-прежнему нравилось целомудрие их отношений, и как это совместить с тем, что он сделается вдруг ее любовником, она не знала. Не знала она и как он примет, что она перестала быть Спящей царевной.
Рассказывая о себе, Федоров не раз говорил ей, что он девственник, и она привыкла уважать то, что у него никогда никого не было. В его понимании мира очень многое было построено на том, что он никогда не имел дела с женщинами и что она, которую он спасет и освободит от заклятья, воскресит для жизни, будет его первая женщина. Она и впрямь не знала, согласится ли он вообще стать ее любовником.
По внешности в их отношениях ничего, совсем ничего не менялось, но с каждым днем, с каждой ночью она хотела его всё больше; он спал – а она, желая его, распаляла себя до невменяемости, забыв про стекло, билась о него, терлась, припадала к нему, дрожала; она всё время была в каком-то истерическом состоянии, беспричинно плакала, даже днем не спала, почти ничего не ела. И вот, посреди этого бреда, всего боясь, – в ней никогда не было столько страха – по-прежнему не готовая ни на что решиться, в то же время понимая, что так продолжаться не может, она сойдет с ума, де Сталь вдруг вспомнила, что кормилица недавно говорила ей, что в Тамбове открылась новая, очень хорошая аптека немца Шлихтинга, и там продается какое-то редкое лекарство от простуды, сделанное на основе то ли морфия, то ли опиума.
* * *
О замечательных свойствах китайского опиума, о восточных опиумкурильнях и о том, что испытывает человек, принявший это снадобье, не однажды заходила речь еще в ее парижском салоне. Двое из ее знакомых тех лет, проведшие многие годы в Индии, вообще не могли без него жить; один из них, барон Орсер, печальный человек с желтым, почти китайским лицом, – он был из тех медленных людей, которых в последнее время она вспоминала всё чаще, – как-то раз долго объяснял ее гостям, что счастье, полное, абсолютное счастье близко, рядом, и главное, оно легко достижимо. Нищие, голодные индусы умнее своих белых властителей – и хорошо это понимают; целый день они готовы работать, но не ради еды, денег или власти; всё, что им нужно, – трубка опиума. Потому что, молод ты или дряхл, здоров или умираешь, достаточно одной трубки, чтобы в тело твое вошло блаженство, чтобы ты вернулся в рай, вернулся в то время, когда о грехопадении никто и не думал. Опиум смывает со всего пыль; природа обветшала, потускнела, потеряла краски и свежесть – теперь она делается прежней.
Сначала ты начинаешь различать запахи, потом в тебе обостряются и другие чувства, ты снова будто ребенок, и Бог снова берет тебя к себе, берет в мир, каким он был в первый день творения. Вокруг всё цветет, благоухает: деревья, травы, цветы; ты не знаешь их имен, потому что ни у кого из них еще нет имени; тот день, когда Господь скажет тебе: «Как ты их назовешь, так и будет», – еще не пришел, но имена им и не нужны. Краски настолько ярки, выпуклы, как будто они существуют отдельно и вообще до всего. Ничто ничего не забивает и ничему не мешает; ты различаешь всё, из чего состоит мир, и не только вовне, но и воздух, который в твоих легких, каждую каплю крови, которая ходит по твоим жилам, каждую свою мышцу и каждый мускул, ты нов и чист, будто перворожденный и безгрешный.
Но, увы, за всё приходится платить: пробуждение, возвращение в наш мир настолько страшно и так быстро, боль – а болит каждая клетка твоего тела, каждый твой хрящик и косточка, кажется, что всё в тебе растоптано, сломано, разорвано, – и огромность утраты так велики, ведь ничего еще не успело притупиться, ты ни к чему еще не привык и ни с чем не смирился, ничего не забыл; так же, наверное, чувствовал себя Адам сразу после грехопадения. Утешает одно: в рай нетрудно вернуться.
«Курильщик опиума, – говорил Орсер, – никогда не скажет, дарит ли ему трубка лишь приятные сновидения (и тогда цена, наверное, чересчур высока), или тебя и вправду отводят в мир, каким он был создан Богом, – я и сам до сих пор этого не знаю. Иногда я уверен, что то, что вижу, явь, назавтра же снова склоняюсь к тому, что просто спал. Во всяком случае, когда я курю трубку и со мной заговаривают, я слышу, понимаю, отвечаю вполне впопад, но всё так вплетено в сновидения, что, и очнувшись, я ничего не могу разделить».
Таков был тот давний рассказ Орсера; после него она видела барона лишь несколько раз: скоро он уехал из Парижа в Овернь, в свое поместье, и там, по слухам, через месяц умер. Теперь вместе со Шлихтингом и его аптекой всё это пришло ей на память; сначала она пожалела, что мало обращала на Орсера внимания, а потом сразу, без перехода подумала, что можно было бы и Федорову давать небольшое количество опиума, он наверняка еще не имел с ним дела, значит, привычки нет и небольшой безвредной дозы – она бы ни за что не хотела причинить Федорову зла – будет достаточно: он заснет, и так, спящим, сделается ее любовником.
Ей очень понравилось и показалось забавным, что он мечтает о ней, будет ею обладать, то есть мечта его исполнится, но он никогда об этом не узнает. Даже и без того, что она наконец перестанет мучить и себя и его, идея