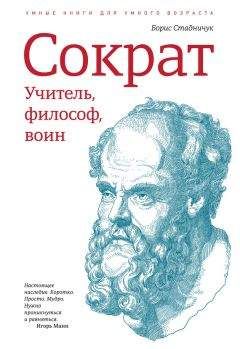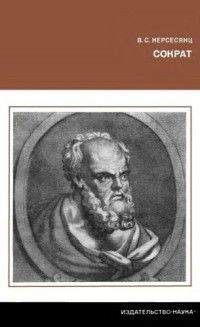Он продолжал говорить о ранениях и доброте как первейшем женском признаке: "Доброта, а потом уж внешность, потому что в старости не остается никакой внешности, а одна только доброта, и все нужно оценивать в перспективе", - он говорил еще долго, пока наконец не заметил человека в проходе. Я глядел на него уже добрые десять минут, то покидая слова соседа в пользу растерзанного вспотевшего красавца, то возвращаясь к ним невольно, как к чему-то привычному и успокаивающему.
- Я прошу вас выпить со мной, потому что я ненавижу летать, - провопил молодой человек и отчаянно дернул себя за шелковый в крупный горошек галстук, измазанный и мятый. Вид у него был расхристанный, прическа сползла набок, образуя развеселый тандем с воротом рубашки.
- Хотите верьте, хотите не верьте, но я человек серьезный, а не так, и завтра, увидев меня на первой полосе газет, вы не узнаете меня, я пришел к вам из первого салона, я лечу на месте "1А" и пришел к вам, чтобы вы совсем немного выпили со мной, потому что я не выношу перелета...
Он, почти что заваливаясь вперед, произвел несколько гигантских шагов и оказался рядом с Мальвиной, застывшей в позе Мебиуса: "Выпей со мной, женщина, и я расцелую тебя на прощание, вот визитка моя и одна, и вторая, и третья, если ты по ошибке огреешь мужа насмерть, я оправдаю тебя во всех судах вселенной и объясню, что есть густая женская обида, которая закипает один раз и не дает осечки".
Визитки вихрем закружились в воздухе и осыпали проход вместе с Мальвиной, несколько визиток упали в книжку, одна, как погончик, опустилась на правое плечо, и одна застряла в пышности неподдельного перманента. Мальвина не шелохнулась. "Интересно, а места на странице, которые закрывает карточка, она читает по периметру или как?" - невольно задался я вопросом.
- Она отказала мне! - с искренним расстройством обратился буянящий к присутствующим, аккуратно вытаскивая визитку из Мальвининых волос. - А знаете ли вы, кто со мной пил?
Фамилии, которые он с трудом перечислял, образуя подчас чудовищные гибриды, были действительно впечатляющими, и нос с горбинкой заерзал, пытаясь установить фамилию ораторствующего.
- Большой человек, - констатировал он после паузы.
Справа согласились.
- Давай сюда, - послышалось со стороны левого кресла, - заказывай вискарь и смирновку, выпить так выпить, раз угощаешь, так чего же...
Через секунду молодой человек уже сидел на подлокотнике переднего кресла и заказывал стюардессе, отчаявшейся его утихомирить, все, чего было угодно душе его лояльных соотечественников.
- Вот вам сто, и сдачи, пожалуйста, не надо, - нарочито вежливо проговорил, невзирая на сильно заплетавшийся язык, молодой разгильдяй, оказавшийся адвокатом.
Спереди переглянулись. Явственно в проеме между двумя креслами совершенно синхронно выплыли два профиля и безмолвно уплыли.
- Сначала я подумал, что это член экипажа обращается к нам, когда он говорил фамилии, некоторые я узнал, хе-хе, я думал, что мы летим вместе, но потом я пригляделся и понял, конечно... Он не опасен? Я, знаете, был знаком с такими личностями... - вздохнул сосед.
- Ублюдок, - женский голос сзади.
- А что вы хотели? - многозначительная реплика сзади же.
Мишель заволновалась. Похоже, она хочет пересесть, но в ее ситуации это совсем непросто. Советуется с соседкой, сидит напряженная, обхватив руками живот.
- Какие проблемы, мужики? - загорланил адвокат, разливая смирновку.
Все внезапно замолчали. Мальвина смахнула визитку с плеча и осторожно опустила руку на прежнее место. Старик закрыл глаза, нарочито приоткрыл рот и задышал, симулируя глубокий сон. Сзади не доносилось ни звука: под такой аккомпанемент невозможно было развивать прежнюю партию. Шуршание газеты и хруст яблока. Мишель развернулась почти спиной к проходу. Я переместил правую руку с подлокотника на колено и принялся разглядывать ее.
Признаться, я всегда очень любил этот маршрут...
12
Я всегда очень любил этот маршрут. Выходишь из квартиры во всегда свежий, опрятный коридор, бодро шагаешь к лифту, камнем падаешь вниз - рассказывали, что у этих лифтов какие-то бесцветные американские моторы, сделанные специально на заказ, - около первого этажа лифт притормаживает, шипит и пыжится, и нужно глотнуть, чтобы прочистить заложенные от скорости уши, непременное приветствие консьержки - "Здравствуйте", полное чувства собственного достоинства и сдержанной расторопности, Ларочки, дочки Маргариты Сергеевны, которая здесь без малого сорок лет. Она-то совсем по-другому: "Здравствуй, Петюшенька, мама сегодня как?" - почти по-родственному еще со времен университета, белых синтетических рубашек и лакированных башмаков. И третий вариант - заискивающе-панибратское "Драсьте" Дусечки, так ее все называют, говорят, очень груба с посетителями, и также говорят о ней, когда визитеры выказывают особую ранимость, что злая собака хорошо стережет. Ларочка - аккуратненькая, собранная девочка, учится на вечернем, днями в лифтерке читает без просыпу, Маргоша вяжет как заведенная, Дусечка - жрет, а что еще можно сказать при ее габаритах, вечно зажатой за щекой котлетине и неизменно жирных губах?
- А вы, - завизжал адвокат и почему-то показал на меня красным и кривым пальцем, - если хотите знать, то швейцарский банк, как румынский офицер, денег не берет, то есть совершенно наоборот, опираясь на безупречные аморальные принципы.
- Я? - изумился я.
- Именно, - подтвердил адвокат, - лучше выпей с нами.
Старик не шелохнулся. Я почувствовал страх, как защекотался на лбу выступивший пот. Мишель повернула голову и скользнула по мне водянистым взглядом. Я не осмеливался поднять глаза и, как виноватый школьник, пробубнил:
- Я не могу, я болен, - и для большей уверенности указал пальцем на замотанное горло.
- Так вот, швейцарский банк, - продолжил он, автоматически перемещая свою речь на нос с горбинкой, - я недавно защищал одного крупного человека, и я, знаете ли, произвел на него, он даже не ожидал в наших разговорах.
Осознав, что незамечен, я поднял глаза: крупно вьющиеся потные черные волосы, высокий мокрый лоб, рассеченный вдоль глубокой морщиной, густые брови, голубые глаза с длинными ресницами, орлиный фиолетовый нос, розовые, как у купидончика, щеки, чрезмерно полные губы.
- Я должен вам сказать, я не ожидал этого!
Говорил он один, бесконечно перебивая себя и фонтанируя тостами. Терпение старика лопнуло. Он открыл глаза, уныло опустил голову и принялся рисовать сухим указательным пальцем какие-то круги на подлокотнике.
- И почему мы должны это терпеть?
Я пожал плечами.
- Скажите, почему мы должны это терпеть, давайте вместе позовем стюардессу, - предложил он Мишель через проход.
Застекленный холл. Зеркала, которые помнят меня стройным и легким, стремительным и веселым, в отцовском слишком широком костюме и теперешним, круглоголовым, крупным, загорелым и замерзающим, зеркала, которые помнят приходы и уходы, приезды и отъезды, проскальзываешь мимо них, мимоходом отмечая: "хорошо", "плохо", "коротко", "длинно", "поправился", "постарел". А потом после привычного единоборства с тяжелыми входными дверьми - направо вниз - к "Баррикадной" с обязательными пробками в час пик, к зоопарку и эскимо, к деткам и шарикам по субботам и воскресеньям или в соседний вход за углом в огромный магазин с вышколенными полногрудыми продавщицами в кокошниках - икра и прозрачные листья семги, майонез и бородинский, сыр российский и плавленый, пустота и мухи, очереди к застекленной кассирше, мама знает всех их по именам, но маршрут совершенно иной.
- Я готов немедленно покинуть вас. - Оценивающий голубоглазый взгляд на Мишель, в сторону старика - ни полоборота (молодец, складно и без акцента). Но, сами понимаете, не могу, - он расставил руки в стороны, пытаясь имитировать полет, он чуть было не рухнул в проход и был по-родственному водружен на прежнее место владельцем носа с горбинкой. - За ваше многосложное здоровье, мадам, - он поднял прихваченную со столика чью-то рюмку и выразительно подмигнул.
- Нужно протестовать, я лично больше выносить этого не могу, - прошептал мне старик, откинулся на спинку, закрыл глаза и бережно прикрыл руку с перстеньком другой плоской и сухой рукой.
Через сквер, вечно перенаселенный забулдыгами всех пород и мастей, всех возрастов, полов и религий, всех увечий: одноногих, рябых, распухших, изможденных, с расквашенными носами; лысые женщины, подростки, похваляющиеся самопальными ножами и кастетами, "гастролеры", демонстрирующие наколки, старики, скрючившиеся в собственных лужах, через них, наискосок, к остановке, можно на "Б" или на "10", можно пешком, чуть-чуть, если есть время, чтобы размяться, мимо американского посольства, железобетонных милицейских рож и впоследствии металлических загончиков для желающих, мимо глобуса слева конечно же, символа новой Москвы, обаятельно вращающегося и источающего голубое сияние по вечерам, вперед, к Парку культуры, оставив позади солидные широкоплечие изваяния, отрешающие отдельные элементы своего бетонного размаха на людские головы-судьбы... Рано или поздно неизбежно вскакиваешь в троллейбус, обычно еще до цветочной лавки, крошечной, с одной витринкой, у которой всегда назначались встречи, справа телефонные автоматы, подземная толкучка, называемая "туалет", а потом через мост, мимо отливающего музыкой роскошного классического портала парка. Затем не стало ни цветочного, ни будок, ни "туалета", перед "Октябрьской" справа и слева - какая-то сумятица, слева сначала заборы и кавардак, а потом ЦДХ и парк с изваяниями периода социалистического Нерона и его последышей, но нужно направо по великолепию Ленинского проспекта к каменным объятиям перед площадью Гагарина до потрясавшего умы начала семидесятых магазинища, чтобы перейти, потом прямо, налево, налево и прямо. Вертушка, доска объявлений, около вертушки - вахтерши, уж до чего солидарны они с уборщицами во всей полноте своего "отношения" к нам, по лестнице вверх через зеленый коридор к непонятно-лиловому столу за книжным шкафом - лаборатория, коллеги, окно, за которым и клен, и дуб, и ясень, и марево, и просвет...