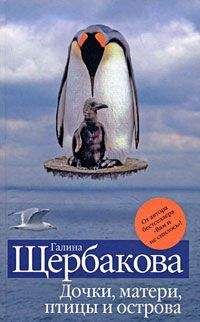"Сейчас меня кликнет, - подумал старик. - Любите ненавидящих вас... Давняя песня... Броньку - не могу..." - И, не зная, за что зацепиться по эту сторону ширмы, старик перебил гостя:
- Православие, молодой человек, не защитило нас от монголов. Кто знает, вдруг спасло бы католичество. Говорите, оно не народное? Однако народ за ним пер, и сила у католиков была. Когда орда на Россию валила и наши священнослужители не помогли князьям выстоять, на западе патеры собирали бездельников отвоевывать Гроб Господен, и те как миленькие шли! А если бы князья отбили татар, то целых семь веков Россия не знала бы проклятия азиатчины. Люди устроили бы себе "Хабеас корпус", а не сельский мир или чертово общежитие.
- Католичество в России!? Только этого нам не хватало! - Мария Павловна выглянула из-за ширмы. - Умерла мама, а ты боишься к ней подойти и мелешь черт-те что! Даже в такой момент хочешь подковырнуть: не туда, мол, крестилась. Или считаешь, что каждому надо молиться в своем углу? Мне - по бабке - в костеле, а Гришеку - в синагоге? А что он забыл в синагоге? Он русский. Он лучше вас всех! Это он, а не ты, открыл мои глаза... - вдруг набросилась Мария Павловна на гривастого гостя.
- Что ты, Марьюшка? Разве я спорю? - покраснел длиннокудрый, и старик лишний раз утвердился в своих подозрениях.
- Гришек лучше всех... - заплакала Мария Павловна и снова ушла за ширму. Но, сев на узкой кровати в ногах матери, Маша подумала, что зря сейчас кричала. Не так уж она опечалена смертью Варвары Алексеевны. Никогда она свою мать не любила. Жалеть - жалела, да и то недолго.
Правда, поначалу мать была для девочки загадкой. Красивая, величавая, настоящая дама, она почему-то предпочла мужу-инженеру утильсырьевщика Константина Ивановича. Женщины во дворе объясняли: любовь! Но это с детства волшебное слово никак не вязалось с опухшим от водки лодырем. Маша знала, что мать - подкидыш и что подкидыши - особенные. Они обыкновенных людей недолюбливают и тянутся к отверженным натурам. Не потому ли мама опекала непутевую сестру Гришека Токаря?
Когда началась война, мать совсем потеряла голову. Дрозд не хотел эвакуироваться, и она сама едва не осталась. Но вдруг перерешила и, вместо приемных родителей, взяла в теплушку других Токарей.
- Вагон не резиновый, - объяснила она Маше. - Тут надо или - или... Кто для родины перспективней? Молодые, полные сил, или которые без одной минуты в гробу? Поняла? Вот и не канючь. Ни те, ни эти мне не родичи, и я поступаю по-справедливому.
В эвакуации Маша быстро вытянулась, повзрослела и на пятнадцатом году выглядела совершеннолетней. На нее оборачивались. Демобилизованного после контузии географа она одним прищуром своих светло-зеленых глаз на пол-урока лишала речи. Крутившаяся возле танцплощадок и кинотеатра шпана считала Машу "своей в доску". И только сожитель матери, бывший красный партизан и нынешний ее начальник Михаил Степаныч не обращал на Машу внимания. А Челышевы поселились у него. Считалось, что красный партизан проявил высокую сознательность и самоуплотнился. Два его сына были на фронте, а жена перед войной уехала погостить к родным и застряла в оккупации. Михаил Степаныч теперь запирался с Машиной мамой в двух своих смежных комнатах, оставив Маше просторную кухню.
Казалось бы, какое дело Маше до материнского хахаля? Не думать бы о нем вовсе. Да она и не думает. Что ей начальник УРСа*? Она сыта и одета не в пример многим сибирякам. Но уж слишком сердита Маша на Варвару Алексеевну. Зачем сошлась с красным партизаном? Ведь нисколечки его не любит. Просто сама норовит пролезть в начальники, чтобы возле ее кабинета тоже сидели секретарши и чтобы к ней на прием записывались вперед за целую неделю. А она, Машина мама, когда захочет, выпишет кому-то кило пшенки или валенки, а когда дурь найдет, откажет. Нравится матери помыкать необеспеченными и несчастненькими.
* Управление рабочего снабжения.
Но ведь если приглядеться, то Варвара Алексеевна не такая уж и красивая. Маша нисколько ее не хуже. И ростом выше, и стройней. И глаза у Маши светлее. У матери они темные от озабоченности, потому что вечно она о своей выгоде печется. Маша запросто может отомстить Варваре Алексеевне. Она ей по справедливости докажет, что мать на самом деле - дрянь. Зачем отца бросила? Зачем бабку и деда немцам оставила? Пусть ей за все отплатится...
И вот Маша начала исподволь состязаться с Варварой Алексеевной. То бурным смехом встретит глупую шутку ее хахаля, то восторженно уставится на него, будто он не бывший партизан, а сегодняшний, молодой и бравый. Ее старания не прошли впустую. Михаил Степаныч что-то учуял, насторожился, и вскоре уже не поймешь, кто за кем охотится.
Тут бы и оборвать. Ведь большего не нужно. Но Маша заигралась, и проба юных чар заводит ее чересчур далеко. Однажды, обезумев, материнский хахаль сажает ее к себе на колени. Маша яростно вырывается, но всю следующую неделю с замиранием сердца и ужасом ждет, чтобы красный партизан снова на нее набросился.
Все у них происходит молча. Варвару Алексеевну Маша теперь ненавидит. Иногда девушке чудится, что мать обо всем знает, но смотрит на это сквозь пальцы. Мол, где тебе, дурехе, со мной тягаться? Ладно уж, пусть Михаил Степаныч тебя полапает. С него не убудет...
На самом деле Варвара Алексеевна ни о чем не догадывается. Ее сожитель заскакивает домой днем. Его автомобиль торчит возле какого-нибудь учреждения, а сам начальник УРСа трусцой перебегает двор и пыхтя взбирается на свой этаж. Маша давно сбежала с уроков. Вот она слышит на лестнице грузные несмелые шаги. В замке поворачивается ключ. Маша стоит в кухне и шепчет, как заклинание:
- Гад-сволочь, сволочь-гад...
Сама к Михал Степанычу она не кинется, а он проходит в комнаты, что-то там ворошит, двигает, хотя времени у него - считанные минуты.
Маша все нетерпеливей шепчет: ,,Гад-сволочь..." Но партизан ведет себя так, словно в квартире пусто. Наконец он возвращается в коридор, вертит поводок в замке. Вся пылая, Маша прижалась лбом к холодной меди водопроводного крана. Ну, кто кого?!
И тут партизан толкает кухонную дверь...
"Веселые были игры..." Мария Павловна вздрагивает за ширмой. Ей кажется, что она сидит возле мертвой матери целую вечность. Но по ту сторону ширмы спор только еще разгорается.
- Конечно, Православную Церковь можно винить, что она не объединила князей для отпора татарскому нашествию, - говорит Машин друг. - Но согласитесь, Павел Родионович, что это взгляд прагматический и поэтому русскому сознанию бесконечно чуждый. Монголы были русской голгофой. Их ниспослали России во искупление ее грехов. Всякий иной взгляд не только кощунствен, но даже абсурден. Монголов было меньше, чем россиян, и если бы не Предначертание, русские отбросили бы азиатов.
- Как мадьяры и чехи? - спрашивает Челышев.
- Примерно... Но России был открыт иной путь. А чехи и мадьяры, отогнав монголов, закоснели в своем бюргерски-желудочном полугрехе.
- И за это их впоследствии утюжили танками?
- Мы говорим о другом... - хмурится гость.
- Папа, не богохульствуй! - кричит из-за ширмы Мария Павловна, и старику становится не по себе.
Всего лишь полгода назад Машенька публиковала статью в журнале "Наука и религия", и сколько Павел Родионович ни убеждал ее, мол, непорядочное это дело, Машенька небрежно отмахивалась: дескать, религия - всего лишь размягчающий мозги обман. Поэтому можно, не кривя душой, опровергать ложь Церкви. Да и о чем другом сегодня напишешь честно? "Далась тебе Церковь! Что ты в ней оставила?" - вздохнул тогда Челышев и напомнил анекдот: пьяный ищет под фонарем рубль. ,,А где его посеял?" - спрашивает прохожий. "Под забором". - "Зачем же здесь ищешь?" - "А тут светло..." "Вот все вы так, - добавил от себя старик. - Пишете не о том, что наболело, а о том, что позволено. И это еще самые честные..."
Так обстояло дело всего полгода назад. А теперь длинноволосый приятель дочери бубнит:
- Счастье России, что Владимир принял православие...
И старик сердится: "Лучше бы она спала с ним без религиозных диспутов". Но, очевидно, без диспутов Машенька уже не могла.
- А Владимиру ничего другого не оставалось, - роняет старик. - Все заранее было предопределено, только не Небом, а вполне низменными обстоятельствами.
- Какими, Пашет? - спрашивает зять.
- Гео-гра-фи-ей. Днепр с севера тек на юг, то есть из варяг в греки. Куда товар везли, оттуда и Церковь вывезли. Кроме Византии, некуда было податься. К католикам же рек нету. На запад - леса да Карпаты. Даже татары туда не прошли.
- Географически, возможно, вы правы, - соглашается гость. - Но ведь география тоже предначертана... Почему, Павел Родионович, вы так равнодушно, даже без намека на боль, выводите русскую планиду? По-вашему, мы народ без альтернативы?
- Вовсе нет. Просто, когда запаздываешь, дорогу выбирать некогда. Вот если бы Господь соблаговолил расположить Россию в Эгейском море или на Адриатике, тогда бы дело пошло веселей. А Он засунул ее в снега да в чащи, где один путь - по воде. Вода же текла в Византию... С тех пор сколько ни прорубаемся, в Европу не пробьемся. А на восток и удобней, и спокойней. Перед монголами и китайцами за отсталость не стыдно.