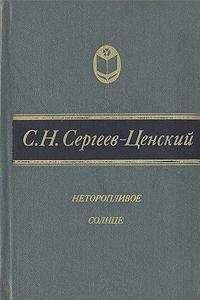Три недели тюрьмы легли на нем тяжело… Первые дни он ничего не ел, не спал, только метался по камере до красных кругов в глазах, потом ложился, но скоро вставал и начинал кружить снова. Осунулся. Поседел. Начал дергаться вдруг — вздрагивать всем телом. Почему-то глотать стало трудно. И свободе он был как-то по-детски рад и все торопил Елену Ивановну с отъездом в Анненгоф:
— Как можно скорее, Нюся, как можно!..
А дни здесь стояли совсем уже могуче-солнечные, распустившиеся, пьяные от первого прочного тепла, от жирной подымавшейся земли, от облаков, низких и тучных… У голенастых тополей распухли почки, и тонко запахли вылезшие храбро сережки… И крестьяне, привозившие камыш и сено, идя возле бричек, невозмутимо топили тяжелые чоботы в черной грязи.
Ехали в Анненгоф день и другой день. На третий уже ясно стало, какая зима еще, какие снега, какой холод. Елена Ивановна по нескольку раз в день посылала за горячей водою и, разложив всюду коробки с печеньями, пастилу, халву, шоколад, все пила чай и добродушно угощала соседей. Антон Антоныч был как-то странно молчалив, сонлив, спокоен.
Раз, в сумерки, на одной маленькой, но заставленной товарными поездами станции Антон Антоныч долго смотрел в окно, в которое ничего, кроме двух красных, грязных, пустых, с черными пастями вагонов, не было видно, и, обернувшись к Елене Ивановне, посмотрел на нее вдруг, как смотрит человек, понявший что-то или догадавшийся внезапно о чем-то огромно важном, и сказал медленно и тихо:
— Э-э… это я уж знаю теперь, кажется, твердо… — постучал задумчиво пальцами по стеклу и добавил еще медленней и еще тише: — Это я не Анненгоф купил, это я себе… купил… крест и гроб, вот что!
И ярких, больших, как будто тоже испуганно шепчущих глаз его никогда потом не могла забыть Елена Ивановна.
XVIII
Сквозь ели с одной стороны озера, точно режет их золотой пилою, брызжет полоса заката, отчего ели кажутся страшно глубокими, лохматыми, черными, а на другой стороне верхушки сосен облиты жидким тающим вишневым соком, и узловатые стволы кое-где вырываются отчетливыми извивами, дожелта накаляются и горят. Небо, влажно-лиловое от растрепанных толстых туч, никуда не уходит, собралось над головою и висит тяжело. Лед на озере раскололся, побурел. Под рыхлым, осевшим снегом притаилась вода; дорога в провалах. Низами, по-над кореньями или выше лесных верхушек тянет что-то хмельное и пахнет весенним бродилом.
Как сложены были кубами на высоком бугре серые гранитные глыбы — будущий цоколь фабрики, — так и лежат грузно и важно, но Антона Антоныча тут нет. Гатер лесопильни переставляют повыше, чтобы не затопило разливом, и идет в лесу веселая рабочая суета: пыхтят лошади, кричат люди, — но Антона Антоныча здесь нет. Завтра едет в город Григорий, и Елена Ивановна на крыльце дома длинно говорит с ним, что купить и где купить, и выходит, что запастись нужно очень многим, пока дорога не испортилась совсем и не настало половодье. У Елены Ивановны записано все, что нужно, и она по нескольку раз повторяет это вслух, и повторяет за нею Григорий; похоже на то, как обучает безусого новобранца усатый дядька.
— …И еще перловой крупы пятнадцать фунтов… Я думаю — довольно: куда ее много?.. Это тоже у Курбаса, где сахар, — говорит Елена Ивановна.
— Еще, значит, круп перловых… пятнадцать фунтов… Хорошо, что ж… вполне довольно будет… у Курбаса, — говорит Григорий.
Антона Антоныча и здесь нет.
Он в школе старика Тифенталя, в тесной комнате, где пахнет скипидаром от ломоты, гвоздикой от зубов, где в шкафу с разбитым стеклом торчат потрепанные книжонки; на большой некрашеной деревянной кровати — грязное ситцевое одеяло; в углу — бутыль с керосином, на окне — маленький глобус, похожий на яблоко-антоновку. О том, как его судили, рассказал уже Антон Антоныч; теперь говорят о боге.
Тифенталь сидит на кровати против окна, в которое бьет закат. От этого он золотеет весь — и серая пятивершковая борода, и синие очки, и лоб, и улыбка, с которой смотрит он на Антона Антоныча, — все пронизано закатом, а между закатом и этим стариком, в окно видно, — залегли индигово-синие леса.
Антону Антонычу ходить здесь негде, и он стоит около окна сбоку, смотрит то на золотеющего старика, то на синие леса вплоть до вспыхнувшего неба и говорит, покачивая головою:
— Бог — богом… богови, конечно, молися и черта не гневи, как сказать, а только, кажется мне так, добрейший, что настоящая это и сущая выдумка.
— Как выдумка-то? — спрашивает старик.
— А так… Нет ничего этого равным счетом.
— Как нет-то?.. Есть! — пугается старик.
— Где есть?
— Вот тут-то, в сердце-то, — показывает пальцем Тифенталь. — Бога выгонять нел-зя!.. Ну-у, когда его выгонят, то он уже не придет больше… нет — фьють — ушел-то.
— Куда ушел?
Антону Антонычу как-то тоскливо, и злость его, с которой говорит он теперь, косноязычная, тупая, не хочет искать и не ищет слов.
Отсиял закат; потух старик. Теперь он серый, как большая мышь. От скипидара и гвоздики Антону Антонычу трудно дышать, и он говорит брезгливо:
— Что это вы все лечитеся, добрейший? А?.. Что это вы все э-ти прим-очки, как… баба глупая?! И на черта вам это все, как сказать!.. Отворили бы вы окошко, да собрали бы эти прим-мочки все, да шваркнули б их так, шоб аж… дзвон пошел!
— Ну-у… а ревматизм-то? — спрашивает Тифенталь.
— А ревматизма никакого нет… ревматизмы! То вам делать нечего, как девчонке глупой, абы тряпка красная, — ревматизмы! Кому некогда болеть, то и некогда, это уж вернее смерти, шо тот и не узнает никогда, шо это за болезнь есть… ревматизмы!..
Тифенталь не отвечает, он только улыбается косоглазой, как будто хитрой улыбкой, тихо хлопает рукою по своей седой голове и показывает пальцем на голову Антона Антоныча. Оттого, что косит его глаз, кажется, точно кому-то невидному третьему, невидному, но стоящему здесь же, показывает он, как сильно поседел Антон Антоныч.
Синие сумерки наплывают. Старик все почему-то улыбается длинно. Душная маленькая комнатка тиха. Антон Антоныч болезненно вздрагивает вдруг, но тут же, отвернувшись к окну, говорит злобно:
— Шо седых волос у меня прибавилося, то я и сам знаю и нечего в меня пальцами тыкать… — Он закусывает губу, с минуту стоит молча и добавляет: — Седеть — это я, положим себе, да пожалуй себе, давным-давно начал, вот… вот-с!.. Я их сначала выдирал вон з корнем, абы их духу не было, ну да, признаться… мне замуж выходить не нужно… нет!..
И опять едкий скипидар, и гвоздика, и маленький глобус на окне… и вот уже нестерпимо хочется уйти; он прощается, отворяет двери.
— Ну-у, — суетливо поднимается Тифенталь, — я провожу-то вас, как же…
— Да я и один, признаться вам, любезнейший, дорогу знаю, — говорит Антон Антоныч досадливо и ворчливо.
— Не-ет, ну, нельзя-то, — спешит старик надеть свое зеленое пальто с хлястиком и, надевая, показывает на нем зашитую прореху: — Во-от… на подводу сел-то, на гвоздь, р-р-р… ну-у, зашил с иголкой…
Потом нахлобучивает низко ушатую шапку и как-то так понуро и торопливо выходит и идет рядом с Антоном Антонычем, кое-где отставая на полшага, на шаг и опять догоняя своими щупающими землю шагами.
Он идет с одной стороны, но Антону Антонычу кажется почему-то, что идет он то справа, то слева, обвивает его, как хмель, и ему он противен; когда же доходят до усадьбы, то говорит Антон Антоныч:
— Поужинаем сейчас з вами, герр Тифенталь, да, как бы сказать, — пива выпьем…
— Не-ет… Я пойду-то, — поворачивается старик. — Нельзя.
— Что так? — останавливает его зачем-то Антон Антоныч; и когда старик объясняет, что боится в темноте идти обратно, он снова говорит то, чего не хочет:
— Пустя-ки, добрейший! Я вам дам фонарь, и вам будет светло, равным образом, как… как… как жуку в навозе, как сказать… Ну, входите, не бойтеся.
Сидит за столом Тифенталь и уж не в новом пиджаке, как приходил он раньше, а в стареньком, в котором сидел у себя в школе. На пиджаке этом пятна и морщины такие же, как и на его большом старом лице. Пиво он пьет мелкими глотками, долго согревая каждый глоток во рту. Елена Ивановна совсем не знает, о чем говорить с ним, спрашивает:
— Вы отчего это не женились, герр Тифенталь? Так бобылем и прожили весь век и ни одной девицы не осчастливили, — эх, вы!
Тифенталь улыбается скромно, разводит руками, говорит:
— Ну-у… как жениться-то… — и качает головой как будто с сожалением и как будто насмешливо.
— Вот теперь у вас никого и нет… Были бы дети, совсем бы другое дело, — продолжает Елена Ивановна.
Антону Антонычу неловко: ему ярко представляется почему-то, что стоит Тифенталь под венцом, и просто это, но удушливо-жутко, а старик улыбается и говорит:
— Нет детей — плохо-то; есть дети — тоже и одно — плохо…
— Трудно — это правда, очень с детьми трудно, а все-таки веселее, — придумывает Елена Ивановна. — А вырастут — ведь люди из них будут.