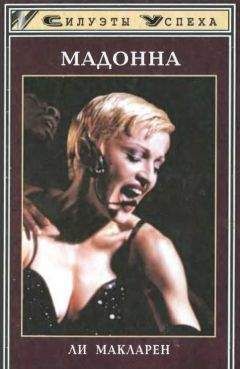Арсений зашел в будку и набрал Ликин номер. Сначала долго не соединялось, потом долго гудели долгие гудки, а Арсений придерживал пальцем монетки в приемнике автомата, которому ничего не стоило сожрать их, не соединив, и не поперхнуться. Трубку на том конце сняли только где-то после пятнадцатого сигнала, которого Арсений, находись он хоть в чуть более нормальном состоянии, конечно бы, не дождался. Ал°! прозвучала мембрана низким, хриплым с бодуна Ликиным голосом. Ал°! Ликуша, милая, как хорошо, что ты дома! проговорил Арсений столь резко, что снова задел выбитый зуб и поморщился. Ликуша, ты слышишь меня? Я... с-с-сплю, заплетающимся языком ответила Лика. Пошли вы все н-н-на хуй! Лика! заорал Арсений...
268.
...это же я, Ася, - но трубка уже издавала короткие гудки раздражающе высокого тона, назойливо требуя повесить себя на место.
Арсений вышел наружу и остановился посередине весеннего солнечного дня. Ну и куда теперь? задал себе вопрос и осторожно потрогал кончиком языка болтающийся в десне зуб. Теперь-то куда? допечатывал Арсений в редакции последнюю страницу романа: свою как всегда неожиданно поломавшуюся машинку пришлось снести в ремонт, и срок ремонту назначили больше месяца. Спасибо еще, что взяли вообще.
Печатать, однако, приходилось очень нервно, с опаскою: завотделом Кретов, пришедший на место уволенного полгода назад Аркадия, не умел связать и двух строк, потому все рабочее время вынужденно приглядывал, как попка на вышке за зеками, за Арсением и новым его коллегою Сенечкой, тем самым стукачом-профессионалом, и тоже, кстати, писать ничего, кроме доносов, не умеющим. Вот и приходилось демонстрировать служебное рвение, а собственными делами заниматься в ущерб обеду, покуда Кретов пребывает в стекляшке. Когда же дело касалось столь опасного текста, как Арсениево ?ДТП?, глядеть следовало не в оба, а вчетверо, остерегаясь внезапного появления не только Кретова, но и Сенечки, но и почти любого работника редакции, способного всякий миг войти без стука и стать за спиною Арсения, читая, что это он там печатает.
В редакции вообще произошла масса перемен: из симпатичных Аркадиевых друзей не осталось никого: одни ушли сами, от отвращения, другие - под давлением Вики, третьих уволили за мифические провинности. Куда-то исчезли и девочки-семитки, канул в нети ответственный с непартийной бородкою, а освободившиеся места заняли люди, которых Арсений никак не мог запомнить в лицо и научиться отличать одного от другого, разве что Кретова: по необходимости. Чаепития, естественно, прекратились: Ослов запер конференц-зал, а ключ умыкнул к себе в кабинет, пристроил под Тем Кто Висел На Стене. Вика, пережившая уже семерых главных, и при восьмом чувствовала себя великолепно. Жирной птичке Люсе снова крупно не повезло с Афганистаном: в Кабуле прирезали ее мужа. И на хера нам сдался этот сраный кусок гор! кричала она в истерике. И эта дубленка! И эта машина! Положение вдовы героя-освободителя доставило ей, однако, повышение: Люся сделалась завотделом писем, стала одеваться строго и в черное, требовала называть себя исключительно по имени-отчеству: Людмилой Васильевной. Дубленку, впрочем, носила. В машине ездила. Идеологические глаза Гали Бежиной зажгли, наконец, мужское сердце: сердце самого Ослова, и неожиданная парочка все чаще засиживалась на службе допоздна. Из белых (по выражению Владимирского) людей в журнале остались, пожалуй, лишь так и ползающий по полу Олег да сам Арсений. Но как наш Цинциннат Ц. ни стремился казаться предельно лояльным и старательным, чутье на гностическую, так сказать, гнусность, на некоторую непрозрачность постепенно достигало в редакции верхнего своего предела.
К тому же мало-помалу начали просачиваться слухи, будто Ольховский что-то такое пишет, чуть ли не пасквиль на редакцию и на всю Советскую власть в целом, и вот статьи Арсения появляться в журнале перестали вовсе, зато образцы его редакторской правки, намеренно искаженные Ословым, не сходили с доски ляпов; на доске рядом висели выговоры и замечания литсотруднику Ольховскому; словом, Арсения медленно, но верно со службы выживали, и он, рискуя записью в трудовую книжку неприятной статьи КЗОТа, не подал до сих пор заявление об уходе только потому, что ни разнообразные звонки, ни личные встречи, которым он вот уже полгода отдавал, отрывая от романа, добрую половину свободного времени, не сулили никакой штатной работы. А на свободных хлебах Арсений делался слишком легкой добычею для милиции и ГБ, если бы последнему пришло в голову снова им заняться. Да и денег на бензин не хватило бы.
Хлопнула уличная дверь, и характерные, из сотен других легко Арсением узнаваемые шажки возникли и стали приближаться. Мгновенно и испуганно, так что сердце пропутешествовало до пяток и назад, Арсений вытащил из машинки листок, на котором не успел допечатать всего двух-трех слов ?ДТП?, и сунул под ворох бумаг на столе. И вовремя: ворвался Кретов. Низенький, толстенький, с маленькою головою, выдвинутой далеко вперед, в профиль он напоминал миниатюрного динозавра. До журнала Кретов заведовал в одном из секторов ГОСКИНО выпуском кинематографистов в заграничные командировки, что делало его принадлежность к известной организации несомненною. Вас просили зайти в отдел кадров, сказал Кретов. Что он, в кадрах обедает? скривился Арсений, а вслух спросил: сейчас? Чем скорее, тем лучше. Отдел кадров находился в другом здании, километрах в трех, и Арсений стал одеваться, гадая, что им еще от него понадобилось: получить ли расписку за очередной выговор или передать, наконец, приглашение на беседу по адресу, улица Дзержинского, дом, кажется, двенадцать. Во всяком случае, ничего приятного экстренный вызов сулить не мог.
Непременно следовало забрать с собою недопечатанную последнюю главу и черновик: оставлять их здесь слишком опасно. Но не вдвое ли опаснее собирать листки при Кретове? и Арсений пустился на небольшую хитрость: вас, я слышал, хотел видеть Ослов. Конечно, хитрость эта еще отольется Арсению, но покуда Кретов пулею вылетел из комнаты. Если этот, ну, предположим, майор, так бегает перед Ословым, в каком же чине последний? промелькнуло в голове у Арсения, когда он выходил из редакции. И как все-таки по-французски перец с солью?
Метрах в двадцати, на небольшой площадке, среди прочих автомобилей, стоял Арсениев новенький ?жигуленок?, цвет - кофе с молоком. Арсений открыл дверцу ключиком, запустил двигатель и принялся терпеливо ждать, пока тот достаточно прогреется. Когда стрелка термометра миновала красную зону, осторожно-осторожно двинулся с места: к машине, обремененной почти трехтысячным долгом, приходилось относиться с повышенным уважением. В идеале на ней не следовало ездить вообще. Буквально накануне получения Арсением очередной открытки автомобили сильно вздорожали, и Арсений вынужден был взять две с половиной тысячи у Ликиного мужа: больше не нашлось ни у кого. Тогда-то они впервые и познакомились.
У здания, где располагался отдел кадров, Арсений остановил автомобиль, запер его ключиком; машинально, однако, весьма внимательно осмотрел снаружи: вроде все в порядке: ни царапинок, ни вмятин, ни голубиного помета - и вошел в подъезд.
269.
Арестовывать Арсения придут в понедельник, рано утром, часов около восьми. Основная шобла останется делать обыск, а двое, усадив между собою в черную ?волгу?, повезут Арсения на Лубянку, в кабинет следователя Петрова. Тот, правда, предоставит Арсению все шансы выкрутиться из ситуации с минимальными потерями: спросит, кто является интеллектуальным автором ?ДТП? (Арсений даже не вдруг поймет, что последняя фигура означает: кто, дескать, подбил Арсения написать роман), выяснит, нет ли в Арсении потребности искренне покаяться в заблуждениях, и, только услышав от арестованного бескомпромиссные до комизма ответы, отправится за ордером на посадку, который, подписанный неким генералом армии (ого! подумает Арсений. В какую важную шишку удалось мне превратиться!), и предъявит нашему герою спустя два часа.
Далее потянутся дни, потом равные им недели и, наконец, равные неделям месяцы в Лефортовской тюрьме. Все окажется до разочарования неромантичным, даже в сторону каких бы то ни было ужасов, и, как ни удивительно, наиболее ощутимым лишением почувствуется лишение возможности писать (то есть писать можно будет сколько угодно, только все написанное отберут на еженедельном шмоне), даже более мелкое: лишение возможности поправить ?ДТП?, который, когда у Арсения окажется масса времени, чтобы вспомнить и проанализировать роман, в лихорадке оконченный и в спешке, ибо ускользала оказия, перекинутый за бугор, явит сотни небольших и десятки значительных изъянов. В один прекрасный момент заключения Арсений подумает, что, кажись ему книга совершенною, он, пожалуй, хоть и из одного любопытства, попробовал бы лагеря, теперь же, выходит, лагеря он покуда не заслужил и не обеспечил себе надлежащего психологического тыла, потому на очередной встрече со следователем поддастся-таки уговорам подписать раскаянье, чем и вознаградит прямо-таки ангельские кротость и терпение старшего лейтенанта КГБ Петрова. Арсений, разумеется, отдаст себе отчет, каковою будет реакция на отречение от собственной книги либеральной общественности, но тем интереснее покажется ему добиться признания написанному и следующим произведениям наперекор предубеждению против личности автора.