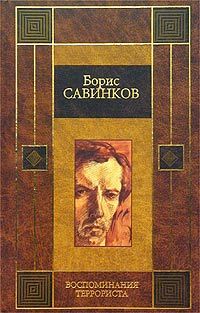Счастливый Вреде. Хорошо умереть с непоколебленной верой в душе, с сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час заглянуть в свою совесть и помолиться: "Господи, я исполнил свой долг". Хорошо отдать жизнь "за други своя". Так умер и Назаренко.
26 февраля
...Вот идут державным шагом
Позади - голодный пес,
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди - Исус Христос.
- Жорж, ты помнишь эти стихи?
- Помню. Но ведь по-твоему, Христос для детей...
- Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это?
- Да, правда.
- Слушай дальше. Мы начали с братанья на фронте и кончили победой везде. Вы начали с добровольцев и кончили на Лемносе. Правда это?
- Да, правда.
- Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это?
- Пусть правда...
- Так почему же ты против нас?
Она сидит строгая, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. Я смотрю на нее. Я ищу следов прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но и они как будто не те. Где их власть надо мною?.. Нет, опять не праздник, а будни... Я говорю тихо:
- А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш "Коммунистический Манифест"?.. Подумай. Вы обещали "мир хижинам и войну дворцам" и жжете хижины и пьянствуете в дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыни "на гроб", а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны... Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи.
Она молчит. Она не смеет ответить.
- Скажи.
- Да, правда.
27 февраля
Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю - зачем?.. Она плачет. Но я знаю: она плачет не о своих ошибках и даже не обо мне. Она плачет о нашей любви... Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреде - того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. По-разному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват никто. Все правы. Все - "прах земной" и все "пух"... Где всадник с мерой в руке?
28 февраля
Между нами сказано все. Все ли, однако?
- Жорж...
- Что, Ольга?
- Ты меня ненавидишь, Жорж?
- Нет, Ольга.
- Но ты и не любишь меня?.. Ты любишь другую?
Другую?.. Я вспоминаю внезапно Столбцы, лунный свет и белый платок. Я вспоминаю звезды, и лес, и запах свежего сена. Я слышу: "Любиться со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню..." Любил ли я Грушу? Не знаю. Тогда мне казалось, что не люблю.
- Ответь.
Она поднимает испытующие глаза. Она пристально смотрит. Потом говорит:
- Ты любишь другую... Так зачем, зачем ты пришел? Зачем смутил? Зачем посмеялся?.. Ну, я твой враг, ты ненавидишь меня. Так уйди, Жорж, уйди...
- Хорошо. Я уйду.
Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к окну. В серой раме окна высокая и черная тень. Ольга - та Ольга, для которой я здесь.
- Да, Жорж, уйди.
1 марта
Иван Лукич уехал на юг по делам "Комитета". Вероятно, он боится "Чека", вероятно, также торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино - он не брезгает никаким товаром. Он копит деньги на "хутор".
Егоров возмущен: "Бросил. Стрекача задал... А все из корысти. Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой рубашке, как, например, господин поручик. Ах, окаянные... Поганят народ, рублем соблазняют..." Он ютится на заднем дворе, в клетушке. В правом углу образа: бог Саваоф и Христос Спаситель; в левом - высокий, окованный железом сундук. В нем браунинги, патроны, бомбы, ручные гранаты. Крышка с внутренней стороны заклеена лубочной картиной "Жизнь человека". Восхождение: детство, юность, женитьба. Нисшествие: женитьба, старость, могила. Под могилою - ад: черти с трезубцами и хвостами, и геенна, "вечный огонь". Егоров тыкает пальцем:
- Вот. Забывают люди про это.
Я говорю:
- Егоров, уезжал бы и ты.
- Никак нет, господин полковник.
- Смотри, Егоров, ведь арестуют.
- Не арестуют... Я их всех сундуком взорву.
Я улыбаюсь:
- А это не грех?
- Грех?.. Грех бесов сокрушать?.. Где это слыхано, господин полковник?
2 марта
Федя звонит, что нас ищут. Я и ему предложил уехать. Он, разумеется, отказался: "Где вы, там и я, господин полковник. Помирать, так уж вместе, черт бы их всех побрал..." Я знаю, что мы играем с огнем, но не хочу, не могу бросить дело: я сохраняю надежду, что Федя узнает адрес начальника "Вечека". "Вечека"... Какая стыдливость... Почему не "Охранки"? Ведь тот же, царский, застенок и тот же, Шемякин, суд.
Я хожу по Москве. Хлопьями валит снег. Он застилает бульвары, площади, переулки. Белеют крыши домов. Белеет трепещущий воздух. Бьют на Спасской башне часы. Я думаю о наших свиданиях - об Ольге. Ее вера - мое неверие. Ее радость - мое несчастие. Ее победа - мой бесславный конец. И обратно, конечно... Мне тяжело возвращаться к ней.
3 марта
Истины нам знать не дано. Но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас. Не всякое слово облечется в живую плоть, но всякое может изойти кровью. Их слово изошло ею. Пролились не реки, а океаны. Во имя чего? Ольга говорит: во имя братства, равенства и свободы. Ей снится сон. Сон снится и мне. А явь? Не суета ли сует?
Я поднял меч. Я не мог его не поднять - не мог, потому что я сын России. А теперь? "Друзья мои и искренние отступили от меня, и ближние мои стоят вдали. Я близок к падению, но скорбь не всегда передо мною".
4 марта
Я, конечно, вернулся к ней. Ее комната тоже чужая. Слишком голые стены. Слишком наглый, слишком обидный портрет.
- Ольга, сними.
Она послушалась. Она снимает золоченую раму, потом садится и берет мою руку.
- Хочешь, Жорж, я погадаю тебе?
Я не верю в гадания. И я не верю, что она хочет гадать. Я говорю:
- Не надо... Ты где-нибудь служишь?
- Служу.
- Где?
Она называет какой-то "ком". Попечение о детях. О "пролетарских" детях, конечно.
- В партии?
- Да.
Я вешал за партию... Я молчу. Она тоже долго молчит.
- Жорж...
- Что, Ольга?
- Так где же, по-твоему, правда? Ведь не в белых же?
- Нет.
- Не в зеленых же?
- Нет.
- Не в старых же партиях?
- Нет.
- Так где же?
- Не знаю... На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных людей. Но не в вас.
Она встала и наклонилась ко мне. И вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело - ее высокую и мягкую грудь. Так обнимала Груша.
- Мне некогда, Ольга. Прощай.
- Жорж, ты любишь другую?
- Не знаю, Ольга, не знаю...
- Не знаешь?.. Ты меня разлюбил... Как я ждала тебя, Жорж. А потом... Потом... ты "бандит"... Я не могла. Ты должен понять... Но скажи, кто она? Кто другая?
- Ольга, ее уже нет.
- Значит, правда? Значит, я не ошиблась?.. Нет, Жорж, я не люблю, я ненавижу, да, ненавижу тебя...
Она плачет. Льются женские, обильные слезы, - как у Груши, в лесу.
- Ольга...
- Нет... Ты изменник. Ты предатель. Ты враг народа... Ты наш, ты мой враг...
- Ольга...
- Я тебе сказала: уйди.
Второй раз она гонит меня. Пусть так. Мне жалко моей любви. Но у меня нет ни гнева, ни сострадания. На улице я забуду о ней.
6 марта
В "Известиях" напечатано: "Новое преступление белогвардейцев. Предательский взрыв в Наркомздраве. Вечека, стоя на страже революционных завоеваний, открыла очередной заговор наемников Антанты, меньшевиков и эсеров. 5 марта, в 4 часа пополудни, агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении. Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие, раздался оглушительный взрыв. Убиты товарищи Вецис, Бирк и Щепанский. Здание Наркомздрава повреждено. Бандит изуродован взрывом настолько, что не мог быть опознан. Смерть предателям! Да здравствует РСФСР!"
"Бандит изуродован взрывом..." Егоров сделал так, как сказал. Да, он вешал, расстреливал, даже жег на костре. Но ведь он боролся с "бесами". Но ведь он не курил и не осквернялся чужой посудой. Довольно ли этих заслуг, чтобы избежать того, о чем забывают люди? Он верил. Да святится вера его.
7 марта
Егоров был темный старик, ибо темны народные недра. Темна невспаханная земля, богата и плодородна. Он корнями ушел в нее. Но "сделалось землетрясение великое". Пошатнулась древняя жизнь. А новая... Что дала ему новая? "Убили сына и дом сожгли..." Бесовское наваждение.
Я слушаю, как в трубе воет ветер. И мне кажется, что я не в Москве, а в лесу, и что гудят вершинами клены. Вот Егоров выйдет из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет: "Эка, прости господи, благодать"... И, освежая и радуя, зашумит летний дождь.