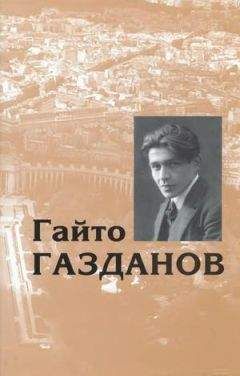– А ты у матери украдь.
– Зачем мне красть? – говорил я. – Она мне даст; я попрошу, она даст.
– Ну, мать у тебя чудачка, – говорил Сережка, – я бы тебе не дал.
Затем Сережка предлагал очередную месть своему заклятому врагу, владелице модной и белошвейной мастерской Екатерине Сидоровне Карповой, которая однажды, по словам Сережки, написала на него донос в полицию. Это было совершенно неверно, но Сережке это очень нравилось, – он и это, по-видимому, где-то прочел и сразу вообразил себя в роли преследуемого, а Екатерину Сидоровну – в роли врага, хотя Екатерина Сидоровна о Сережке вообще не имела понятия; но Сережка сам искренне верил в то, что она послала на него донос в полицию, и, в отместку за это воображаемое преступление, каждый раз, когда мог, писал мелом на дверях ее мастерской: «Сдесь шьют очинь плохо», – чтобы отбить заказчиков, как он говорил. – Увидят и уйдут, – говорил он мечтательно, – тогда она, стерва, почувствует, что такое доносы писать. – И <в> его фантазии уже рисовались толпы заказчиков, подходивших и подъезжавших к модной мастерской: они прочитывали надпись и медленно удалялись, хотя сама Екатерина Сидоровна, стоя на пороге, умоляла их вернуться.
Екатерина Сидоровна была – и осталась – для меня чистейшим, идеальным образцом особенного траурного великолепия. Много лет спустя я узнал ее историю: она была любовницей очень богатого и пожилого человека, хорошо жила, ездила с ним за границу; но в один прекрасный день он скоропостижно скончался, не оставив завещания, – и ей, конечно, не досталось ничего. Тогда она надела траур, который потом не снимала никогда, и открыла свою мастерскую. Она была молчаливая женщина; кожа у нее была очень белая, глаза большие и черные, и когда она проходила, она, казалось, никого не замечала вокруг себя. Она считалась очень гордой, редко и мало разговаривала с соседями. Я помню отчетливо шелковое шуршание ее платья, запах ее духов и сосредоточенно-строгое ее лицо. И только один раз за все время – это было уже в семнадцатом году, – я видел это лицо оживленным и эти неподвижные глаза смеющимися. Это было тогда, когда я встретил ее далеко от дома, возле гостиницы «Метрополь»; она шла, подпрыгивая, под руку с каким-то офицером, весь торс которого был обмотан сплошными сплетениями блестящих ремней – ремень через плечо от пояса, ремень от кожаной сумки со слюдяной поверхностью, под которой виднелась разграфленная бумага, ремень от кобуры для револьвера, ремень от бинокля.
В ее мастерской работало пять или шесть девочек, с одной из них мы дружили; ей было четырнадцать лет. У нее было смешное курносое лицо, неспособное сохранять спокойствие. Ее звали Фрося. Она часто жаловалась на строгость Екатерины Сидоровны, всхлипывая и пронзительно сморкаясь в платок, который она засовывала себе за воротник. Года через два она вдруг исчезла, и мы так и не знали, что с ней стало. – Взяла расчет и ушла, – сказали нам ее подруги. Затем однажды к нам явился Сережка, который, захлебываясь от волнения и сюсюкая от все время набегающей слюны, рассказал с восторгом, что он встретил Фросю на вокзале. – В черном платье, брат, в громадной шляпе, – говорил Сережка. – Такая барыня! – Откуда же у нее все это? – Я хитрый, я все узнал, – сказал Сережка. – Все как есть узнал, – бормотал он в восторге, – от меня не утаишься. – Что же ты узнал? – И тогда Сережка сказал значительным голосом, что Фрося поступила содержанкой. Мы не верили ему, он опять бросил шапку об землю и сказал, что каждый день на вокзале мы можем ее увидеть, так как она приезжает из загородного поселка Липовая Роща, где живет, – и мы отправились на вокзал и, действительно, встретили ее совершенно в том виде, в каком ее описал Сережка. И Фрося нам рассказала, что она, действительно, теперь содержанка. Мы были искренне рады за нее. – Кто же тебя содержит? – спросил я. – С бородой или без бороды, молодой или старый? – Пожилой уже, – сказала Фрося, – тридцать пять лет, но такой, знаешь, ласковый, добрый, ничего не отказывает, я в первые дни пирожных объелась, и живот потом так болел, думала, умру.
Мы однажды поехали к ней в гости, в Липовую Рощу, она жила в небольшом домике, в двух прилично обставленных комнатах, угощала нас вареньем и чаем с колбасой, – и Сережка на обратном пути говорил с восторгом: – Хорошо живет Фроська, видел, брат? – Потом однажды ранним осенним вечером я один, возвращаясь с длинной велосипедной прогулки, остановился у дома, где жила Фрося, и постучал в окно, из которого выглянуло и тотчас, же скрылось ее испуганное лицо. – Дай напиться, Фрося, – сказал я ей – жажда замучила. – Сейчас, сейчас, – за закрытым окном произошел короткий разговор, и потом она сказала: – Да ты зайди ко мне, что же так на улице стоять, я тебя познакомлю. – Я вошел и увидел человека в расстегнутом белом кителе. Лицо его было бритое, вид его был приятный, меня только удивило неожиданно усталое выражение его глаз. Он спросил меня, в какой гимназии я учусь, улыбнулся, сказал, что и он в свое время ее кончил. – У нас с вами есть еще один знаменитый однокашник – Мечников, – сказал он. Он был инженер, был несчастлив в семейной жизни и был, кажется, довольно состоятелен.
За домом, в котором мы жили, был сад, за садом овраг, – и туда приходили не только мы, но и наши друзья из соседних домов; мы вели организованные войны, но только одна из них была непрекращающаяся, война девочек с мальчиками, и верх почти всегда одерживали девочки, потому что, когда нас было трое или четверо, а их пятеро, они заискивали перед нами, давали нам конфеты и держались чрезвычайно дружески. Но достаточно было кому-нибудь из нас очутиться в одиночестве, как они тогда набрасывались на него. Такая вещь поочередно случалась с каждым из нас, и однажды особенно жестоко пострадал я, они порвали мне плотную гимназическую рубашку, лицо мое было исцарапано и руки искусаны до крови. Но когда я через четверть часа после этого вернулся с товарищами, чтобы отомстить, то застал только одну из них, двенадцатилетнюю девочку Хану, которая стала нас уверять, что она одна меня защищала. И так как нас было четверо, а она одна, то ничем не рисковала; мы даже подсадили ее на забор, и только когда она была уже с другой стороны, она быстро крикнула: – Я его тоже била! Сволочи! – и побежала, что было сил; мы бросились за ней, но опоздали.
Там же, в овраге, мы начали хором петь песни, которым нас учил Сережка, – и первой из них была блатная песенка, начинавшаяся так:
Выходи ты на бан, дорогая,
Красотой фрайеров удивлять.
И тогда, в этом хоре, нас поразил самый сильный и чистый голос, – он до сих пор звенит в моей памяти, – это был голос Ханы. Хана, – мы ее называли еще Ханочкой, или Ханеле, как звала ее ее мать, – была дочерью пожилой еврейской вдовы, владелицы бакалейной лавки, в которой всегда пахло смесью мыла с таранью, но в которой продавалось все решительно, вплоть до гвоздей. Как только кто-нибудь из покупателей требовал что-либо, чего у нее не было, она говорила извиняющимся голосом: – Нет, я, к сожалению, не имею, – и тотчас обращалась к дочери: – Хана, не забудь напомнить мне об этом товаре. – Она говорила на очень своеобразном русском языке и медленно произносила слова; часто, начиная говорить по-еврейски, она сразу необыкновенно оживлялась, и речь ее лилась так быстро, что ее трудно было понять.
Помню, я как-то вошел в лавку, она только что оправилась от очередной болезни и сказала мне: – Ты знаешь, я была такая слабая, что я ходила и должна была держаться за обстановку. – Дела ее магазина шли довольно хорошо. Она не жаловалась на конкуренцию, говорила про соседей: – Им тоже жить нужно, – но у нее не было денег, потому что она отличалась болезненной щедростью, и люди, обращавшиеся к ней за помощью, никогда не знали отказа. У нее было много детей, хотя она овдовела давно и с тех пор не выходила замуж; но раз в два года приблизительно она бывала беременна, потом рожала ребенка и вздыхала: – Вот, еще один на мою голову. – Дети у нее были разные: Хана была рыжая, младший ее брат, Соломон, отличавшийся необыкновенными способностями к математике, – в восемь лет он легко решал сложнейшие задачи, – был совершенно похож на цыганенка: у него были черные волосы и черные глаза с желтоватыми белками. Только в самых старших детях текла беспримесная еврейская кровь, но уже Хана была дочерью русского мясника, который должен был жениться на ее матери, и это расстроилось самым трагическим образом – он утонул, купаясь накануне свадьбы. Соломон был сыном итальянского шарлатана, жившего в свое время несколько месяцев – и чуть ли не в гостинице «Слон» – в этом городе и уехавшего потом в Италию.
У нее была маленькая квартира за лавочкой, наполненная вечным детским гамом; потом квартира стала казаться еще теснее, когда туда поставили небольшое красное пианино для Ханы, – и я хорошо помню запах того удивительного сладкого мяса, которое там часто готовилось и которое и мне приходилось есть несколько раз. Мать Ханы нередко разговаривала сама с собой или обращалась к детям с вопросами, на которые они никак не могли ответить: – Так как же мы сделаем, Ханеле, как ты думаешь? – Или: – Он хочет двадцать процентов, как тебе это нравится, Соломон? – И мне однажды она сказала: – Может, ты мне скажешь, чем я заплачу моих кредиторов? – Мне было тогда лет двенадцать. – Если хотите, я постараюсь вам достать деньги, – ответил я. – Что ты, что ты! – опомнившись, сказала она. Она очень любила детей и кормила их до одури сладким, которое сама ела с такой же охотой. Она была едва грамотна, и деловые бумаги вела Хана; но у нее была непогрешимая память, она никогда не ошибалась в расчетах и могла с точностью сказать, какая выручка у нее была в такой-то день, месяц тому назад. Помню еще, как она до слез смеялась, когда я пришел к ней в кадетской форме: – Ой, какой ты военный, мне просто страшно. У тебя ружья с собой нет? Ханеле, ты его не боишься?