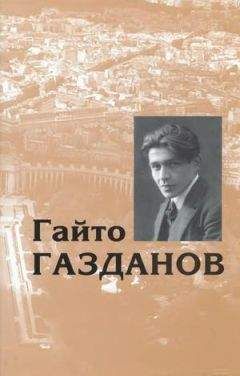У нее была маленькая квартира за лавочкой, наполненная вечным детским гамом; потом квартира стала казаться еще теснее, когда туда поставили небольшое красное пианино для Ханы, – и я хорошо помню запах того удивительного сладкого мяса, которое там часто готовилось и которое и мне приходилось есть несколько раз. Мать Ханы нередко разговаривала сама с собой или обращалась к детям с вопросами, на которые они никак не могли ответить: – Так как же мы сделаем, Ханеле, как ты думаешь? – Или: – Он хочет двадцать процентов, как тебе это нравится, Соломон? – И мне однажды она сказала: – Может, ты мне скажешь, чем я заплачу моих кредиторов? – Мне было тогда лет двенадцать. – Если хотите, я постараюсь вам достать деньги, – ответил я. – Что ты, что ты! – опомнившись, сказала она. Она очень любила детей и кормила их до одури сладким, которое сама ела с такой же охотой. Она была едва грамотна, и деловые бумаги вела Хана; но у нее была непогрешимая память, она никогда не ошибалась в расчетах и могла с точностью сказать, какая выручка у нее была в такой-то день, месяц тому назад. Помню еще, как она до слез смеялась, когда я пришел к ней в кадетской форме: – Ой, какой ты военный, мне просто страшно. У тебя ружья с собой нет? Ханеле, ты его не боишься?
Хану отдали в гимназию, когда ей было десять лет. В день первого же ее выхода я догнал ее, она успела пройти несколько шагов, лицо у нее было бледное, ей было немного страшно, как она призналась. Мы пошли вместе; вдруг из-за утла донесся шаркающий и звенящий шум множества шагов. Мы остановились. – Арестанты, – сказала Хана, – настоящие, с кандалами. – И мы с минуту смотрели на этих людей в серой одежде, тяжело звякающих цепями; сострадательная толпа стояла на тротуаре.
Этот день не был ничем замечателен, он походил на все остальные; но потом я неоднократно и напряженно вспоминал и холод раннего российского утра, и арестантов в кандалах, и бледное лицо рыжей девочки. Я видел впоследствии катастрофическое отступление целой армии, безумные толпы людей в Париже в так называемые исторические дни, видел гигантские пожары в Константинополе, был свидетелем множества трагедий; и вместе с тем, по идеальной нетронутости и сохранности впечатления, ничто из всего этого не могло сравниться с незначительным утром однажды в России, много лет тому назад. Я не склонен был никогда, однако, придавать этому воспоминанию символического значения, которого оно не имело; но во мне оно было, как дома, в то время как все остальное было мне, в сущности, совершенно чуждо. Я неоднократно задумывался над этой невольной ограниченностью созерцания, над тем, что Хана впоследствии, в письмах ко мне, называла нежной узостью; и я предпочел бы отказаться от множества других, более важных, на первый взгляд, вещей, для сохранения этого несомненного недостатка.
Таково было детство Ханы.
* * *
Много лет спустя, в газете, которую Хана прислала мне из Нью-Йорка, я прочел ее другую, настоящую биографию – настоящую потому, что ее знали миллионы читателей, которым никто не мог бы возразить. Биография эта была написана каким-то знаменитым, но литературно неграмотным журналистом в конфетно-умилительном стиле. Начиналась она с междометий и восклицаний – о, тише, пожалуйста! – и с того, что улица перед домом, в котором должно было произойти событие, была устлана соломой, – все это предшествовало тому историческому утру, когда должна была родиться Хана. Отец ее был бедный, но знаменитый скрипач, которого русское правительство не выпускало за границу. Мать ее была красавица и замечательная пианистка, внушавшая девочке любовь к Шуберту, Бетховену, Моцарту. Девочка ничему не хотела учиться, кроме музыки. Их дом окружал тенистый сад, в котором шумели столетние деревья, и именно под шум этих листьев, под журчание реки, которая протекала, по-видимому, в этом же саду, в музыкальном воображении девочки рождались возможности той интерпретации, которая поражает ее слушателей, но которая для нее так же естественна, как шум листьев естественен для сада. Она была единственной дочерью, была хрупкой и нежной девочкой, и доктора всегда боялись за ее здоровье; у нее не было подруг; игры других детей, иногда принимающие варварскую форму, были ей неприятны; она никогда не принимала в них участия, жила, окруженная нежной заботливостью родителей и хрустальными звуками громадного рояля, занимавшего половину их гостиной; вторая половина ее была покрыта шкурой белого медведя, которого ее отец убил в молодости на охоте. И в значительной степени тем, что она постоянно жила одна, и объяснялось возникновение того несравненного музыкального мира, который она носила с собой. В дни еврейских погромов, когда толпа ворвалась в дом Ханы, убийцы и грабители увидели рояль, за которым сидела мать Ханы – Хана пела тогда, – и эти люди, только что вспарывавшие животы беременным женщинам, невольно остановились и затем ушли, не причинив, как король в хрестоматии, никому никакого вреда. Я думаю, что это место даже и автору статьи должно было показаться несколько натянутым еще и потому, что в дни погромов Хане было, быть может, немногим больше года. Я с трудом дочитал статью до конца, тем более что она была чрезвычайно длинна, и в этом обстоятельстве уже играл роль не столько интерес автора к сюжету, сколько вопрос о гонораре, который был по-американски значителен.
«Ты прислала мне свою биографию, – писал я потом Хане, – она даже не смешна, это самый дешевый и глупый миф, который мне пришлось читать. Какие у него были данные, чтобы писать это?»
Она отвечала мне полушутя-полусерьезно, что она поручит мне написать ее биографию.
«Я отказываюсь заранее, – отвечал я. – Я, конечно, мог бы ее написать. Знаешь, таким вкрадчивым стилем, в искренности которого ты не можешь усомниться, останавливаясь подолгу на некоторых случайных и незначительных подробностях, – которые, однако, всегда тщательно подобраны, и к ним приготовлен соответствующий контекст, носящий невольный, но неудержимо лирический характер. Но, видишь ли, Хана, мне жаль всего этого. Вот были замечательные вещи, я могу постараться их перечислить: твой голос, твои глаза, твои рыжие волосы, твои руки, – помнишь, как я учил тебя делать гимнастику, помнишь, как я держал тебя, когда ты впервые надела коньки? – и другие вещи, о которых не принято писать; и вот, вместо этого настоящего и чувственного мира – запах снега, моченых яблок, древесный дух в нашем овраге, в особенно жаркие дни, сладковатое мясо, Хана, которое готовила твоя мать, и тысячи других вещей, – вместо всего этого, что я так любил, я напишу твою стилизованную биографию, получу деньги от редактора, пересчитаю все знаки и потом прочту печально-неузнаваемую вещь, – потому что она очень меняется в печати и всегда к худшему, – и затем критические отзывы людей, которых я лично знаю и знаю наизусть, что и как они напишут. Я согласен на все эти скучные вещи, – но только не о тебе, Хана, ты понимаешь?»
* * *
В те редкие периоды времени, когда моя жизнь проходила без сильных огорчений или катастроф и когда я бывал свободен от их груза, я замечал, что по утрам я был неспособен ни к воспоминаниям, ни к созерцанию, ни к умственной работе, требующей сосредоточенности; по утрам мне хотелось петь или прыгать; я танцевал у себя в комнате, и если бы кто-нибудь из моих знакомых увидел меня в эти минуты, он, наверное, решил бы, что я сошел с ума; впрочем, если бы вообще удалось проследить, как ведет себя человек, когда он абсолютно один, то выяснилось бы, наверное, множество любопытных вещей, которые на первый взгляд показались бы неправдоподобными и невероятными. Жизнь каждого человека всегда бывает представлена в убого схематическом и ограниченном разрезе – как поведение героя романа, или актера на сцене, или, наконец, государственного человека; это создает комбинации некоторых постоянных величин, – которых не существует в человеческой природе и условность которых бывает очевидна только тогда, когда произведение явно неудачно. Я никогда не заблуждался в ограниченной возможности собственного суждения о других и о себе; я только старался сделать его более свободным и не бояться спорных и, по меньшей мере, неожиданных выводов. Итак, утром я был бы не в состоянии оценить, скажем, прекраснейшую поэму, я бы даже не мог дочитать ее до конца, – я не мог бы остановиться на длительном воспоминании, я не мог бы, наверное, написать письма, ежели бы не должен был ограничиться несколькими строчками. Зато вечером, когда я возвращался к себе, я чувствовал, как надвигается глубокая старость, необычайное душевное утомление, перегруженное сожалением, воспоминаниями о нескольких исчезнувших мирах, о нескольких давно оконченных циклах существования. Мне начинало казаться, что я живу бесконечно давно, знаю все, что мне суждено было знать, и во всем, что представляется моему вниманию, нахожу нечто, что мне уже известно. Это были не только воспоминания: я видел судьбу людей, окружавших меня – через двадцать или тридцать лет, видел их постаревшие, почти неузнаваемые лица, их старческие, неуверенные движения, слышал их ослабевшие, потускневшие голоса. Если не происходило ничего необыкновенного в такие вечера и меня никто не прерывал в моем созерцательном состоянии, оно все углублялось и доводило меня почти до исступления, – от сознания невозможности что-либо изменить даже в том, в сущности, почти призрачном мире, воображаемые судьбы которого зависели, казалось бы, только от меня. Я не знал почти ничего, никаких вещей, которых власть была бы сильнее этого состояния; нужна была какая-то непреодолимая сила иного порядка, создающая другое, хотя бы и не менее разрушительное видение мира, создающая иные, менее материальные чувства. Она, конечно, существовала, я сталкивался с ней несколько раз в моей жизни, в те, в общем, очень немногочисленные часы и минуты, когда я чувствовал себя счастливым, потому что кто-то на это время вдруг снимал с меня всякую ответственность за то, что я вижу, и за то, что я понимаю. И одной из таких вещей был голос Ханы. Когда я слушал ее пение, я начинал видеть нечто бесконечное и далекое от того, что я знал вообще, – искусство, обладающее идеальной степенью безошибочного выражения самых отвлеченных, самых сверкающих, самых недоступных перспектив, которые нельзя было перевести на язык обычной речи, потому что они тотчас тускнели и исчезали. Как для всех замечательных голосов, для голоса Ханы не существовало недоступных нот или непередаваемых оттенков мелодии, как не существовало трудности в исполнении каких угодно песен, – будь это еврейские, русские, английские или итальянские, – и это создавало то обманчивое разнообразие ее дара, которое так поражало всех, кто ее слышал. Я считаю, что это было обманчивое разнообразие, потому что я всегда полагал, что каждое искусство, в его предельном выражении, сводится к постижению какой-то одной и, может быть, иллюзорной истины, за которой наверное, действительно остается только смерть, как чья-то бесшумная гигантская тень.