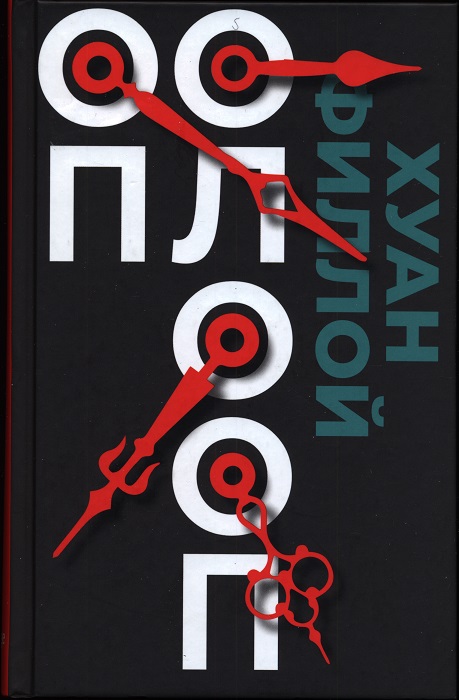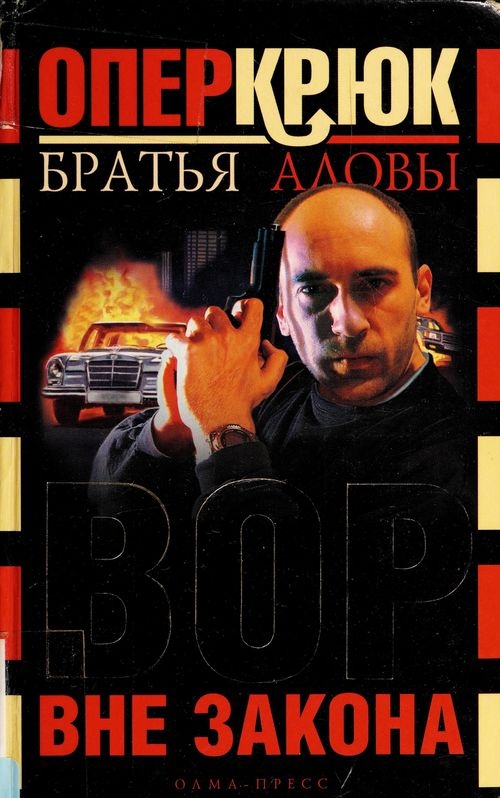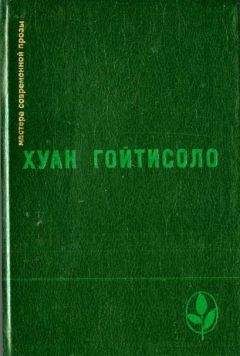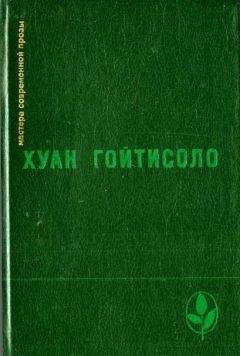из цветов сельвы пахнут формалином и отвратительными миазмами. Нервные пальцы путались в волосах и отворотах блузки.
Гувернантка, единственный спокойный человек, оставалась островком разума в океане растерянности. Мужчины, исполненные сочувствия, пытались быть полезными, но только мешали выполнять ее распоряжения. Отсутствие врача терзало их. Chauffeur выбежал на поиски другого доктора.
Перейдя на финский, она твердо сказала:
— Пожалуйста, выйдите все из комнаты.
Никто не обратил на нее внимания. Никто не понял причины. И все продолжили суетиться у девичьего ложа.
— Пожалуйста, оставьте нас одних, — произнесла она более настойчиво.
Только тогда до отца девушки наконец дошли ее слова. Он увел за собой почти помирившихся, благодаря общей боли, консула и Ван Саала.
Гувернантка дождалась, пока они переступят порог. Затем вернулась к кровати и, не медля, подняла юбку Франциски. Она не ошиблась. В воздухе потек odore di femmina, запах гениталий, источаемый менструирующим цветком девушки.
Для гувернантки, чистокровной финки с непорочно белыми седыми волосами, одеждой и помыслами, это было не страшнее кровотечения из носа. Она сделала все необходимое. Северные народы не придают этому явлению какого-то значения, отличного от физиологического. Гувернантка из Канн на ее месте лесбийски потеребила бы распухшую вульву. И, увидев эрегированный клитор, управлявмый невидимой похотью, связала бы его с несостоявшейся помолвкой и поняла, что все это — лишь болезненная реакция на произошедшее. Но не финка. Она была гиперборейкой. Женщиной из страны крепких девушек в pullovers и на skies, живущих вдалеке от комедии любви в своих деревянных домах под цинковым небом. У ее расы прямой склад ума, свободный от предрассудков, и при этом богатый чувственный плодородный слой, скрытый под снегом клинической светскости и разводов. Она не собиралась предаваться дерзновенным размышлениям. Гримасы и стоны Франциски не остановили ее. Она выполнила свою задачу как нечто само собой разумеющееся. Переодев девушку, она застелила кровать, привела в порядок спальню и открыла дверь.
По лестнице торопливо поднимался Кинтин Оэрее. Подойдя к ней, он вполголоса, как сообщают большую тайну, сказал:
— Оп Олооп исчез. Только бы с ним ничего не приключилось! Ни слова моей дочери. Проследите, чтобы она не выходила из своей комнаты.
И в этот самый момент в дверях показалась Франциска.
— Сеньорита, вам нужно сохранять покой. Сеньорита, вернитесь в свою комнату. Сеньорита…
Франциска и глазом не моргнула. Скрытая мысль делала ее утонченной, а лицо твердым. Ее профиль казался белым беззвучным лезвием. Она слетела по лестнице в просторной ночной рубашке, похожая на призрак. Каждый шаг по ступеням отзывался в сердце ее отца:
— Девочка моя, куда ты пошла? Послушай меня, Франциска. Пойдем, тебе нужно отдохнуть.
Ни ритм, ни плавность ее движений не изменились.
Она спустилась на первый этаж. Повернула в fumoir. Несмотря на опасения следовавших за ней, на ее бескровном лице не отразилось ни малейшего смятения. Ни жеста, ни крика, ни слова. Физическое присутствие Опа Олоопа уже не волновало ее. Франциска настолько превозносила его существо, что внешняя оболочка была позабыта. Бесстрастное личико обеспокоило отца. И не напрасно, ее личность сильно изменилась. Она ушла в себя, словно посадив на lock out все чувства, необходимые для социальной жизни.
В полном молчании она открыла бар. Не смутившись богатым выбором, взяла apricot-brandi. И припала к бутылке. Она пила без удовольствия, жадно, наплевав на манеры, пока отец не вырвал сосуд у нее из рук.
Наступила тишина, наполненная нетерпением и злостью.
Отец попытался успокоить дочь ласковыми уговорами. Она с отвращением отвергла их. Гувернантка с недовольным ворчанием тоже была вынуждена оставить ее в покое. Лицо девушки осунулось, а рот, красивый кукольный ротик, скривился в капризной гримасе.
«Tout se soumit aux lois de I’ivresse». [21] Кинтин Оэрее на своем опыте убедился в правоте этой аксиомы Жюля Ромена. Его любовь, его надежда, его честь униженно трепетали перед покачивающимся величием его дочери.
Анналы психиатрии указывают на связь многих отклонений с нарушениями менструального цикла. Половое созревание после пубертатного периода усугубляет внутренний конфликт. И жертва его впадает в истерию или меланхолию, которые приводят к увлечению мистицизмом или мании преследования и предрасположенности к пиромании и запоям. (Франциска находилась в том возрасте, когда половое влечение требует или огня, чтобы разжечь либидо, или алкоголя, чтобы заглушить его зов.)
Мудрые родители нередко задумываются о психическом и половом развитии дочерей. Следят за тем, что их заботит, анализируют их порывы, изучают кризисные ситуации. Но этим все и ограничивается. Всеобщая трусость побеждает мудрость. Установить корень зла, поставить диагноз — нетрудно. Сложность на данном этапе развития нашей цивилизации заключается в том, чтобы найти смелость не лицемерить и предложить девушке необходимое средство. Наша мораль, признающая самые разнообразные способы ограничения инстинктов, обрекающая их на непередаваемые унижения и пытки, пригвоздила плоть к позорному столбу и приговорила к заключению, вместо того чтобы сублимировать ее в свободе великолепия и радости. (Франциска чувствовала себя жертвой. Напуганная и ошеломленная, в состоянии просветленного опьянения она выла волчицей под гнетом ортодоксальной семейной заботы и предрассудков, не дающих выхода ее порывам.)
Любому отцу известно, что лекарство для его дочери спрятано в ширинке ее возлюбленного или любого другого человека, которого она считает объектом возможной близости. Но ни при каких обстоятельствах отец не пойдет на то, чтобы дать ей это лекарство или позволить ей взять его. Пусть лучше она будет страдающей, бледной и бессильной, погруженной в кошмары девственного бреда, чем удовлетворит первородный инстинкт своих чресел и расцветет от наслаждения, обретя румянец. (И Франциска, anima plorans, закрылась, подобно увядшему цветку, рыдая без слез.)
Если закон и религия отринут морализаторство, человечество, быть может, вернется во времена Античности, когда боги и люди совокуплялись друг с другом, сплетаясь в объятиях во славу плоти. И тогда родители взорвут плотины стыда на пути бурлящего потока правды жизни. Пусть их дочери борются за атрибуты мужественности, которыми одержим их разум, демонстрируют их, гордятся ими. Пусть носят под сердцем как символ здоровья фаллические амулеты и камеи, как это делали девушки и матроны других эпох.
Внезапно все во Франциске взбунтовалось. Она кошкой скользнула вперед и попыталась схватить другую бутылку из хромированного бара. Но ей не дали этого сделать. Руки, гладившие ее, удержали ее. Глаза девушки, чрезмерно распахнутые в душевном припадке, после неудачной попытки сузились и зажглись сарказмом. Исполненная презрения, она смерила взглядом отца и гувернантку, облив их вязким отвращением.
— Дочь, прошу тебя! Не делай так! Пойдем со мной.
Его участие сделало только хуже. Лицо Франциски брезгливо скривилось. И с нескрываемой злобой, идущей из самой