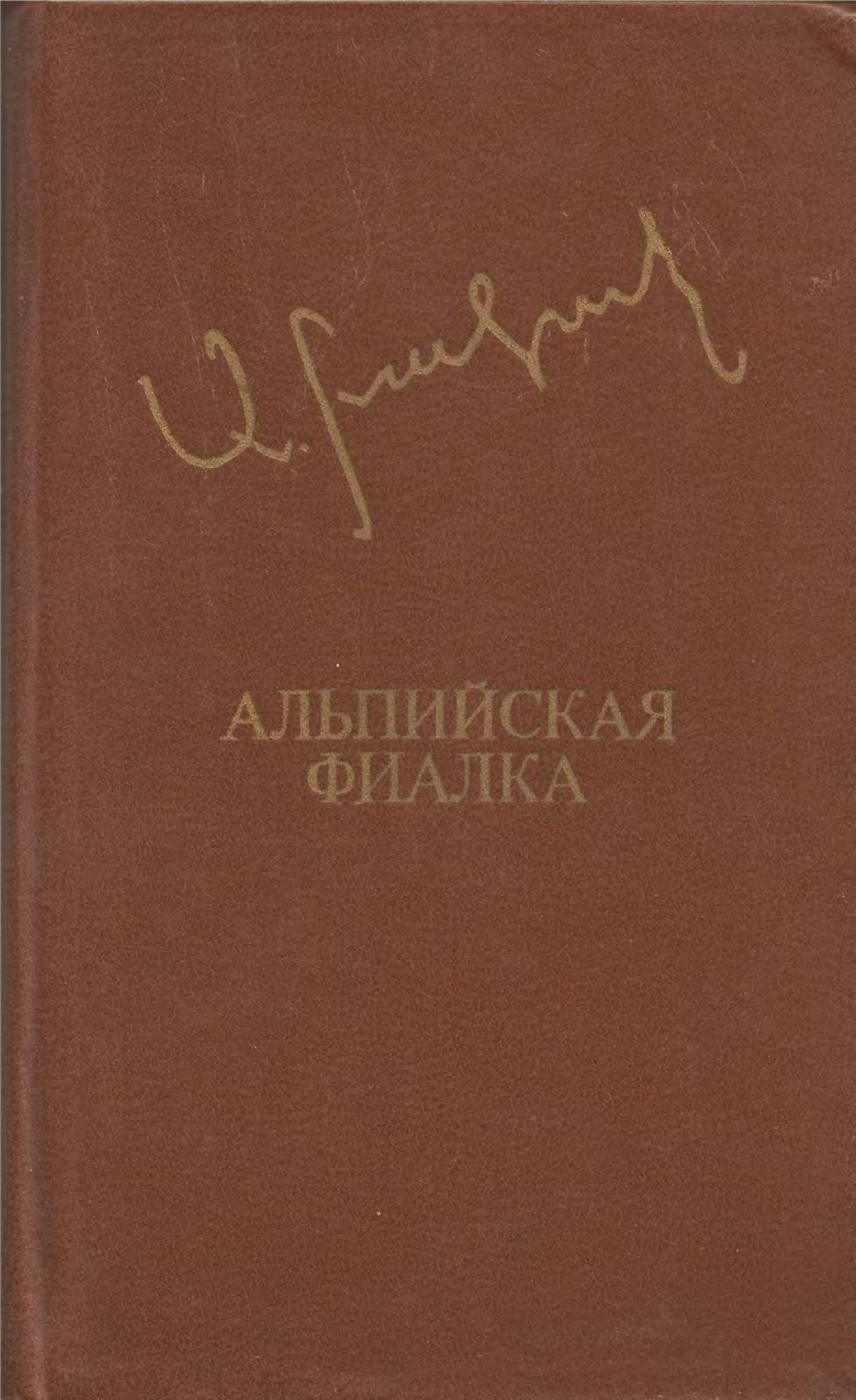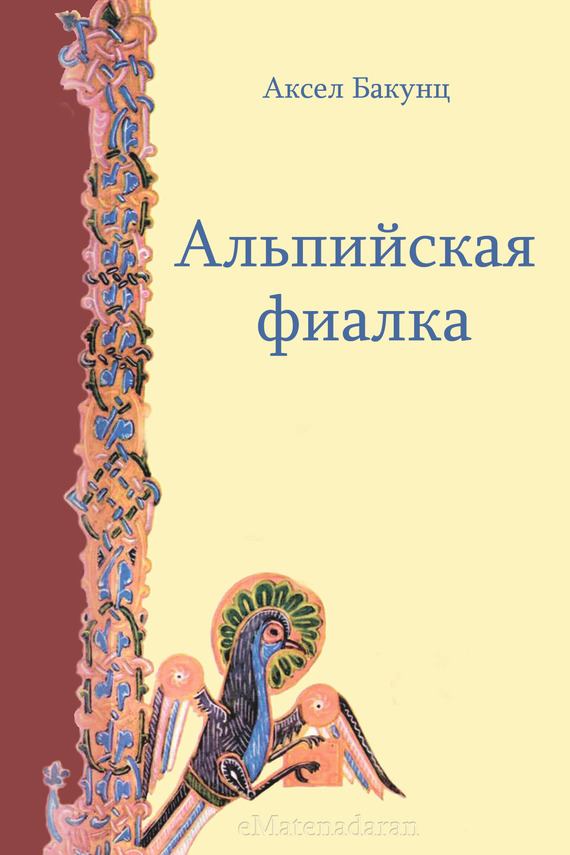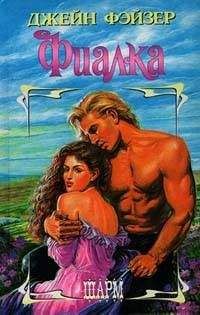преследовать до конца дней.
Армениер отвернулся. Река постепенно его успокоила. Крики журавлей не слышались больше. Только изредка мелкие волны, ударяясь о берега, вызывали глухое эхо в прибрежных песках.
— А он собирался дать нам свободу, — думал лодочник, — и дал бы, но царь наш не разрешил, не разрешили и пруссак, и англичанин. Так мы и остались, господин…
— Почему ты называешь меня господином? — обиженно спросил Армениер.
— Почему? — улыбнулся лодочник. — Потому что оно так и есть. По всему видно, что господин не я.
— Я сын крестьянина.
— Может быть… Нынче, говорят, появились такие господа, которые с народом. Взять хотя бы тех, которые Стреляли в Петербурге в царя. А в Варшаве не то же самое? Школьники и господа студенты первыми наступали на крепость. Варшавская же крепость, могу сказать, твердыня, а не земляная фортеция… А народ, видя, что господа с ним, как начал бить генералов! Долго продолжится эта война… Почем знать, может, что-нибудь и выйдет.
— Чего же ты ждешь?
Лодочник упорно воззрился на него.
— Господин… А ежели вам приятно — брат, дорогой брат, тут я и ты, наверху слышит бог, внизу — это бедное дитя. И никто другой нас не слышит. — Он нагнулся к Армениеру. — Чего же ждет бедный крестьянин? Бедный крестьянин ждет куска земли и свободы. И больше ничего он не ждет. Ежели бы он победил, то дал бы нам и землю и свободу…
— Кто это «он»?
— Вы шутите, господин брат… Вы лучше меня знаете, кто.
— Клянусь честью своей, не знаю. И откуда бы мне знать. Всего лишь восемь месяцев, как я в этом крае, и только обучаюсь наукам. В таком деле я ничего не смыслю.
— Ну оно и понятно: в книгах ваших вы не найдете того, о чем я говорю. А кто книг не читает и водится среди народа, тот знает, кто дал бы нам землю и свободу. — После маленькой паузы он продолжал: — Француз бы дал, сам Наполеон бы дал… В Сточеке, где наш полк зимовал, был один пленный француз. Ногу он потерял от лютого холода и в полковой кухне состоял в должности слуги. Звали его Мишелем, Мишкой, по-нашему. Как-то ночью, я с караульного пункта вернулся на кухню малость согреться и вижу: сидит себе Мишка у огня да покуривает. Покуривает и думает, А о чем думает? Ясное дело, о чем может думать пленный солдат, который не ведает, каково у него дома, как дети, живы ли они, помнят ли его?.. Словом, мы поздоровались, стал курить и я. На кухне, кроме нас, никого не было, вот как сейчас. Так и сидели мы друг против друга. Что же сказал Мишка? Он вздохнул и сказал: «Эх, Василий (так меня зовут), поглупели вы, сильно поглупели. А ведь манифест был уже готов, и он сам должен был его огласить на Кремлевской площади. Вы же послушались Кутузова, послушались царя. Повременили бы годочек, получили бы свободу, получили бы землю, а уж потом вытурили бы нас…» Мишель так и сказал, и это настоящая правда, но ни в одной книге не записана она.
Рассказывал он чудесным голосом. Его слова излучали теплоту, постепенно захватывавшую Армениера. В его ясных словах была сама мудрая правда, чистая, как солнышко. Он рассказывал сладостно, как Мирзам в зимнюю ночь рассказывал сказку о девушке Шармах и о семерых братьях.
— Правда и то, что настал день страшного суда. Всюду борьба, всюду война. Мор прямо свирепствует… Говорят, что в Тульской губернии крестьяне сожгли хутора своих хозяев; будто появился святой, который на городской площади трижды изрекал: «Предайте огню дома и торговые заведения богатеев, ибо антихрист обитает в них!» Сам губернатор приказал прикончить мятежников, но народ начал сжигать лавки и богатые дома. А в Херсонской губернии, говорят, население убежало в степь, к татарам, и во всем городе остался один лишь градоначальник в ожидании приказа — кому бы передать должность. Донские казаки тайком отправили своего атамана к английскому королю, мол, «не хотим больше быть подданными русского царя, а хотим подчиниться тебе…» А в Приволжских местах — голод. Теперь целая лавина несется в Москву — старики, дети, женщины, девушки, русские, татары, башкиры, все, все… Идут сказать, либо давайте землю и хлеб, либо, как саранча, уничтожим ваши города. Ну да! Хоть мы книг и не читаем, но нам известно, что творится на белом свете… Случается, слышим на ярмарке, слышим от солдат, а третьего дня, когда я без дела стоял под Каменным мостом, подошли два польских студента и позвали меня. Я сказал, что лодка моя недостойна их, так как я перевозил муку. Но они рассердились и настояли на своем. Тогда я повез их до старых казарм… Они же, видя, что я русский, начали говорить на своем родном языке. Я орудовал веслами и слушал. Я даже греб медленно, потому что мне очень хотелось узнать, о чем они говорят. Они рассказывали, что пруссаки соединились с русскими и, значит, дела поляков будут плохи, что будто пан Хлопицкий ранен, но и маршалу Дибичу хорошо досталось. И говорили, будто приезжает другой генерал, а Дибича вызвали в Петербург, чтоб отсечь ему голову, ибо по его милости много народу погибло.
Уже показались лачуги рыбаков и заброшенный земельный участок. Навстречу им шли лодки, возвращавшиеся из города.
— Вася! Василий! — кто-то помахал рукой.
— Черт, дьявол!.. Налакался опять! — пробурчал лодочник.
Вскоре показалась «русская окраина».
— Гляди, вот мамочка! — И девочка протянула руку. — Ма! — слабеньким голосом позвала она.
Они приблизились к берегу.
— А может, подвезти вас до Каменного моста? — предложил лодочник.
Женщина, стоявшая на берегу, подошла к ним, обняла девочку и вынесла ее из лодки. Армениер сошел на берег. Мать с девочкой направились к землянке.
Лодочник вытаскивал лодку на сушу.
Армениер опорожнил все свои карманы и, стыдясь, подошел к нему.
— Уж слишком много платите, господин.
— Это все, что имею, — и поспешно удалился.
Он шел по грязным уличкам пригорода, опустив голову. По этой дороге он всегда возвращался домой. Рассеялся предрассветный туман. На улицах стало по-прежнему серо и обыденно. Вот и здесь донесся до него запах свежего хлеба. Мимо открытой калитки он прошел безразлично. В голове его витали иные мысли…
Перевод В. Григорян